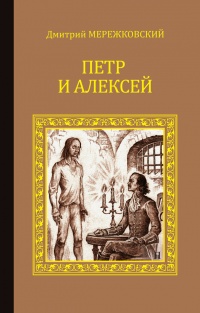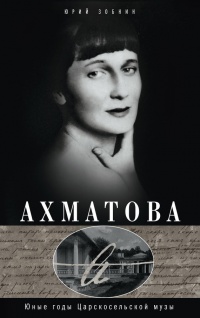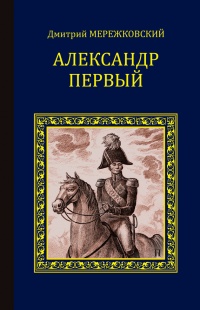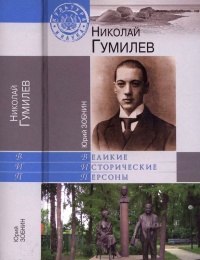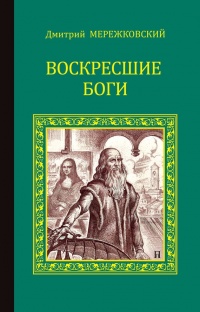Книга Дмитрий Мережковский - Юрий Зобнин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
«Служил он всю жизнь одной – очень большой – идее, – вспоминал в некрологической статье о Мережковском Марк Алданов. – Но и ее сторонники, и люди, ей чужие, относились к этому служению сдержанно – чтобы не сказать холодно. Д. С. Мережковский всю жизнь мечтал о „последователях“. Их у него не было. Факт сам по себе обычный и, по общему правилу, не столь важный: у кого же из русских писателей были последователи?… Но другие русские писатели к этому и не стремились, тогда как Д. С. Мережковский об отсутствии у него последователей говорил иногда, как о кресте своей жизни. Ему часто казалось, что его просто не принимают всерьез. И в этом, действительно, была доля правды».
«Я говорю все это непонятно, нереально, недостойно, косноязычно, почти кощунственно, – горько признавался сам Мережковский. – Но если кто-нибудь сказал, как следует, то засверкала бы ослепляющая истина, самая нужная, хлебная, чревная, плотяная, кровная… А так, как я говорю, это – только письмо в бутылке, которое кидает в море мореплаватель перед крушением…»
А ведь у него был шанс – тогда же, в Париже, в 1907 году.
В один из первых дней января 1907 года из парижской квартиры Мережковских в доме 15-бис по улице Теофиля Готье был с позором изгнан Николай Степанович Гумилёв. Помимо хозяев в изгнании Николая Степановича принимал участие и недавно прибывший из Москвы Андрей Белый.
Действо, насколько можно судить по ярким описаниям, оставленным в эпистолярной и беллетристической формах участниками, проходило весьма живо.
В мемуарах Белого облик Гумилёва в миг визита характеризуется рядом зооморфных сопоставлений: «бледный юноша с глазами гуся», «козлище» и «сонный судак». Воспоминания писаны через четверть века – отсюда, наверное, их элегически-умиротворяющий тон; в письме Брюсову, отправленному по горячим следам событий, Белый более эмоционален, именуя Гумилёва «глупой сосулькой».
Зинаида Николаевна в своем письме тому же Брюсову выражалась более витиевато: Гумилёв здесь предстает «бледно-гнойным» юнцом с сентенциями, «старыми, как шляпка вдовицы, едущей на Драгомиловское», а если верить ошеломленному письму (опять же – Брюсову) самого неудачливого визитера, Гиппиус упорно величала его «поэтом Бетнуаром» (то есть «поэтом-пугалом»).
Однако «coup de grace» наносил, конечно, сам хозяин. Мережковский положил руки в карманы, стал у стены и начал отрывисто и в нос:
– Вы, голубчик, не туда попали! Знакомство с вами ничего не даст ни вам, ни нам. Говорить о пустяках совестно, а в серьезных вопросах мы все равно не сойдемся. Единственное, что мы могли бы сделать, – это спасти вас, так как вы стоите над пропастью. Но ведь это…
– Дело неинтересное? – спросил Гумилёв.
– Да, – ответил Мережковский и повернулся к Гумилёву спиной.
Сейчас, когда время уже совершило «корректурный труд» над историей XX века, становится ясно, что эта «несостоявшаяся встреча» – одно из самых важных событий в русской культуре новейшего времени, а в творческой судьбе Мережковского, пожалуй, и самое важное.
Перед Мережковским в тот январский вечер 1907 года находился не дежурный неофит, не обыкновенный «подающий надежды» начинающий литератор, поступающий в ведение «мэтра». Перед Мережковским стоял великий русский национальный поэт, оказавший затем исключительное влияние на духовное самоопределение России в XX веке.
Гумилёв был едва ли не единственным из молодых писателей 1900-х годов, который мог бы действительно, без оговорок и серьезно, принять «проклятые вопросы» Мережковского как свое. Вопрос о духовной состоятельности человека и человечества в нарождающейся апокалипсической цивилизации постиндустриальной эпохи для него с ранней юности был не темой для модных «декадентских» рассуждений, а «самым нужным, хлебным, чревяным, плотяным, кровным…». Вступая в литературу, он сравнит себя с рыцарем, ищущим Божью правду, – «конквистадором в панцире железном», променявшим золото Эльдорадо на «звезду долин, лилею голубую», – и если он, по свидетельству Ахматовой, «мальчиком поверил в символизм, как люди верят в Бога», то, конечно, потому что думал: в символизме – Бог (здесь уж, наверное, не обошлось без чтения книг Мережковского).
Можно представить, с каким чувством он шел к «мудрецу и пророку»! Единственный раз в жизни самообладание изменяет ему: он теряется, «мямлит», «дрожит с перепугу» (сказать про Гумилёва трусит – язык не поворачивается, но все же: «Цилиндр, зажимаемый черной перчаткой под бритым его подбородком, дрожал от волненья» – какова картина!).
Единственный раз в жизни, в гостиной Мережковских, он, всегда сдержанный и «целомудренный» в исповедальных заявлениях, прямо говорит о том, как он понимает свою поэтическую миссию: «изменить мир, подобно Будде и Христу» (в его письмах будущим «учителям» – Брюсову и Вяч. Иванову – нет и следа ничего подобного!), – и видит затем не мудрого наставника, а… какого-то шута горохового в компании кривляющихся и ерничающих хулиганов.
«…Он… повернулся ко мне спиной. Чтобы сгладить эту неловкость, я посидел еще минуты три, потом стал прощаться».
А все-таки: что же на них такое нашло? В «салоне Мережковских» в годы «бури и натиска» символизма, а затем – в эпоху Религиозно-философских собраний появлялись самые разные люди, куда более оригинальные, нежели юный Гумилев. Хозяева (прежде всего, конечно, хозяйка) бывали остры на язык, но хамства и хулиганства (а как все происшедшее иначе назовешь?) здесь никогда не замечалось. Представить же самого Мережковского, вдруг ни с того ни с сего откалывающего перед незнакомым человеком такие штуки, что даже Андрею Белому, при всей его экстравагантности, становится стыдно; Мережковского – «русского европейца», воспитаннейшего, деликатнейшего человека – вообще невозможно, невероятно! Никто, никогда и нигде (при всем том, что недоброжелателей у Дмитрия Сергеевича хватало) таких свидетельств о нем не оставлял. И здесь не отвязаться от впечатления, что Мережковский в эти несколько минут вдруг оказался «не в себе», не ведал, что творит.
Гумилёв в 1907 году – tabula rasa,[21] на нем можно было «написать» что угодно, тем более что он и сам того желал, целиком предоставляя себя в распоряжение maitra. Мережковский, который мог возиться с десятками потенциальных «последователей» – вплоть до беглых «потемкинцев», – иметь дело с Гумилёвым не захотел. Что произошло бы в противном случае – представить сложно (сослагательного наклонения история не имеет), но ясно, что русская культура XX века пошла бы по иному пути, нежели то получилось. И коль скоро мы верим, что существует некий Божий Промысел в судьбе России, то, верно, во внезапном «безумии» Мережковского скрыт некий провиденциальный смысл: значит, нельзя было, чтобы учителем и духовным наставником Гумилёва был Мережковский, значит, было нечто, делающее – в высшем смысле – недопустимой для него судьбу «второго Жуковского».
* * *
«То, что я передумал, а главное – пережил в революционные годы 1905–1906, имело для внутреннего хода моего развития значение решающее. Я понял – опять-таки не отвлеченно, а жизненно – связь православия со старым порядком в России, понял также, что к новому пониманию христианства нельзя иначе подойти, как отрицая оба начала вместе», – пишет Мережковский в «Автобиографической заметке». В этих словах – ключ ко всем несчастным личным и творческим коллизиям нашего героя в межреволюционное десятилетие 1906–1916 годов.