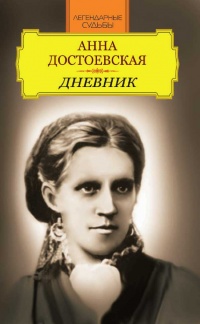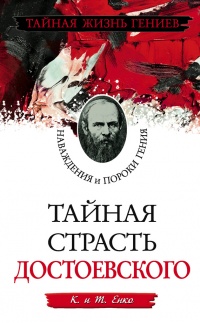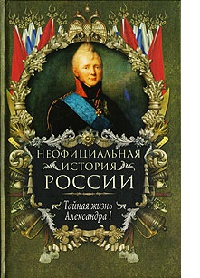Книга Последний год Достоевского - Игорь Волгин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
«Приготовления тяжелы, – говорится в «Идиоте». – Вот когда объявляют приговор, снаряжают, вяжут, на эшафот взводят, вот тут ужасно». Конечно, на миру и смерть красна. Но здесь – не усиливает ли само наличие «мира», этого видимого избытка физической жизни, ужас перехода «в другой неизвестный образ», не подчёркивается ли самим бытием необоримость небытия? «Вот их десять тысяч, а их никого не казнят, а меня-то казнят!» – так передаёт князь Мышкин последние мысли осуждённого, и вряд ли можно сомневаться, что тут отозвались собственные ощущения автора.
«Бытие только тогда и есть, – запишет Достоевский в 1876 году, – когда ему грозит небытие. Бытие только тогда и начинает быть, когда ему грозит небытие»[420].
Их кончающаяся жизнь казалась бесценной, ибо до небытия было подать рукой.
«Кто сказал, – спрашивает Мышкин, – что человеческая природа в состоянии вынести это без сумасшествия? Зачем такое ругательство, безобразное, ненужное, напрасное… Об этой муке и об этом ужасе и Христос говорил[421]. Нет, с человеком так нельзя поступать»[422].
Тургенев передаёт ужас зрителя; Достоевский – смертную муку приговорённого. И в том и в другом случае казнь выглядит отталкивающе: но если зритель действительно может оттолкнуться («отворотиться», как в «Казни Тропмана»), то у казнимого такой возможности нет[423].
Очевидец утверждает, что Млодецкий, прощаясь с народом, сделал несколько поклонов; газеты, которым в данном случае приходится верить больше, таких подробностей не сообщают. Когда священник с крестом приблизился к осуждённому, «толпа как будто замерла… Священник, по-видимому сильно взволнованный, обратился с тихою речью к преступнику…» Вначале Млодецкий «зажестикулировал руками» (не было ли это попыткой, по примеру Дубровина, отказаться от крестного целования?), затем, сказав несколько фраз, приложился к кресту[424].
«Лицо, – пишет репортер «Нового времени», – перестало искривляться в улыбку, которую перед тем он старался сделать. Он был сам не свой»[425]. Фролов с подручным надел на Млодецкого белый колпак, закрывавший ему лицо, и холщовый халат, связав его сзади рукавами. Затем накинул на него петлю и поставил на скамейку.
В этот последний миг надежда ещё не была потеряна. Но – фельдъегерь не появился, и барабаны вместо отбоя ударили дробь.
«Ещё мгновение… палач отдёрнул скамью из-под белой фигуры, верёвка дрогнула, натянулась, и в воздухе закачалось тело преступника…»[426][427]
Агония Млодецкого с сильными предсмертными судорогами длилась целых двенадцать минут, и газеты не отказали себе в удовольствии описать её в подробностях. В половине первого разобрали виселицу, и вскоре площадь приняла обычный вид.
Александр II своим бисерным почерком пометил в записной книжке: «Млодецкий повеш в 11 ч. на Семён плацу – все в поряд»[428].
Вечером у Полонских
22 февраля приходилось на пятницу: по пятницам собирались у Полонского. И если об утре Достоевского нам не известно ничего более, кроме самого факта, что он был там, то о его вечере сохранились некоторые подробности.
«Достоевский, – повествует мемуарист (уже знакомый нам Садовников), – был не в духе… может, ещё под впечатлением чего-либо предшествовавшего. Я не люблю его и остался в кабинете».
Нерасположение к писателю, конечно, не может не отразиться на тоне воспоминаний. Но нас в данном случае интересуют факты.
Разговор зашёл о Млодецком.
«– Правда ли, – говорю я, обращаясь к Достоевскому, – что сегодня на Семёновском плацу было второе покушение на Меликова? Рассказывали так, что будто кто-то выстрелил, затем хотел застрелить себя и не успел. После чего взяли ещё 6 человек с револьверами…
– Нет-с, это всё городские слухи. Если бы проследить рост этих слухов с утра и вплоть до вечера, это представляло бы интерес. Я был свидетелем казни. Народу собралось до 50 000 человек»[429].
Достоевский сух, сдержан, немногословен. Он не вдаётся в подробности, он как бы намеренно запрещает себе сообщать что-либо «художественное», поверять личные впечатления.
Его интересуют слухи: городская молва, дающая пищу мифу, воплощающая в себе тайные надежды и опасения, «доигрывающая» в своей многоустой жизни несбывшиеся возможности. Не было ли среди этих утренних толков и предположений о помиловании? Не сказалось ли в толках вечерних сожаление об этой так и не явленной милости и одновременно – вещее предвидение мести?[430]