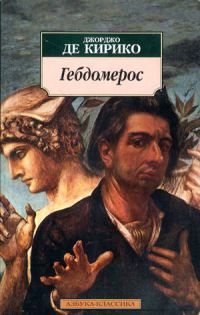Книга Последний Иерофант. Роман начала века о его конце - Владимир Шевельков
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Ну, завела шарманку, роза из навоза! — капризно протянула Валерия, старательно надувая губки. — Что ж ты тогда тут стоишь?
— Девочки, не ссорьтесь! — воззвал Челбогашев, видя, что продажные создания готовы сцепиться между собой как помойные кошки. — Давайте-ка по стаканчику красненького на мировую. Вы бы лучше себя показали да нас потешили. А то ведь все равно без дела простаиваете.
— Ох, и правда! — отозвалась Гликерия, уставившись на Думанского огненным взором казачки. — Закрыли наше приличное заведение, негде стало работящей девушке голову приклонить. Одна-одинешенька, как березка во чистом поле! И всякий тебя ободрать норовит. Некого любовью да лаской одарить, — закончила она, подойдя к перелицованному адвокату почти вплотную.
От неожиданности тот отступил и плюхнулся на стоявшее у стены старое продавленное кресло. На колени ему тут же взгромоздилась Валерия, продолжая изображать из себя «пай — девочку».
— Папочка, а ты мне конфетку купишь? Сказочку на ночь расскажешь? Ну пожалуйста! Я буду хорошей и послушной.
С этими словами перезрелая «барышня» принялась деловито расстегивать ему брючный ремень.
Не успел вконец опешивший Викентий Алексеевич спихнуть бесстыжее создание, как сзади на плечи ему легли руки в уже знакомых грязноватых перчатках.
— «Мой любимый, мой князь, мой жених, ты печален в цветистом лугу…»[84]— провыла ему прямо на ухо «аристократка».
Думанский вскочил с кресла, едва не уронив завизжавшую Валерию. Вся компания разразилась отвратительным вульгарным смехом.
— Как тебя бабы-то любят, братан, — произнес Челбогашев, утирая выступившие от смеха слезы. — А то давай сообразим компанию на пятерых. Чего мнешься, как целка-недотрога? Думаешь, я о твоих художествах не прослышал? Или ты теперь, как эти… новомодные — по мальчикам больше?
— Я?! Как вы могли такое подумать? — вырвалось у Думанского. Челбогашев промолчал, удивленный этим «вы».
Проститутки, одобренные таким поворотом дела, тут же заключили «Кесарева» в объятия, прижимаясь к нему самыми деликатными частями тела.
— Не могу я! — с отчаянием почти выкрикнул перелицованный адвокат, стряхивая их с себя, как медведь свору собак. — Фараоны в участке все начисто отбили, видит око да зуб неймет… Да оставьте вы меня, в конце концов! Ну пошли. Пшли вон, говорю!
«Жрицы» любви наконец отстали — упорхнули стайкой, цинично хихикая и поругиваясь. Вслед им Челбогашев успел запустить:
— Валите отсюда, фоски![85]Кыш!!! Ищите новую фазу.[86]Не до вас, видите. Дела у нас фартовые, серьезные — некогда тут кувыркаться. Будут деньги, кураж будет, сами вас найдем. Адье-оревуар, мамзели! Внизу вас авто ожидает.
У подворотни девиц ждал какой-то потрепанный возок…
— Ну чего, подлечился, как я вижу? — заметил «Митрий». Ухмыляясь и подмигнув «братану», почти в том же тоне осведомился: — Взял, что нужно? Тогда поехали, «Андрей Сте…» Э, нет уж! Пускай тебя Сатин по батьке величает. Значит работаем, братуха, по твоему плану, как договорились!
Санями правил рыжий Таран.
Перед «работой» возница, между прочим, тоже заглянул наверх и потребовал у Никаноровны всю оставшуюся кислоту.
— А зачем тебе столько, касатик? Никак собрался пуститься в кругосветное плавание на пароходной трубе со свистком и женскими панталонами заместо паруса?
— Так ведь последнее ж наше дело, чего беречь? — ответствовал тот, не обращая внимания на дичь, которую по обыкновению несла сварливая «малинщица».
— Погоди, — обратился он уже к «Кесареву», — тут где-то книга была с заковыристыми картинками.
— Там она, на окошке, под граммофонной пластинкой, — отвечал Думанский, внутренне содрогаясь при виде грязной пятерни налетчика с ногтями, как будто обшитыми черным бархатом.
Сбросив на пол пластинку, осколки которой тут же разлетелись по углам наподобие разрывной пули «дум-дум», Таран принялся торопливо перелистывать книгу.
— Ну и наверчено — чего только не умыслили, мудрилы вавилонские! Нам бы попроще закорючку какую, чтобы быстренько юшкой-то на снегу намалевать… Ага! Вот эта вроде сгодится.
Небрежно вырвав страницу, он зашвырнул книгу на буфет темного дерева с фарфоровыми вставками. Вид мебели рококо основательно портили непристойные картинки, намалеванные губной помадой и румянами поверх пасторальных пейзажей, да грубо вывороченная дверца.
Наконец «братья» сели внутрь возка и лошади помчали на самый край Васильевского, в Гавань, и даже севернее — на городской выгон, к Голодаю. Думанский страшно волновался: «А что, если полиция не успеет? Или не сориентируется — чего доброго еще спутает место? А вдруг вообще никто не придет? Или они успеют, а я бежать не смогу? Задержат вместе с Челбогашевым и этим налетчиком? Как я тогда оправдаюсь? Свистунов, вне всякого сомнения, отдаст меня в руки правосудия и покажет, что именно я-то и хотел его убить. Если же сейчас откажусь идти с этими, будет еще хуже: его убьют на месте, и я даже ничем не смогу воспрепятствовать!.. Ну все, хватит дергаться, Викентий. Alea jacta est![87]Впрочем, если взглянуть с другой стороны, — адвокат вернулся к уже полюбившейся мысли, — эти как раз могут оказаться весьма полезны. Надо лишь каким-то образом натравить их на лже-Думанского. Похитить его, отвезти на какую-нибудь потайную „хату“, о которой даже полиция понятия не имеет, и расспросить хорошенько, выколотить из него, в конце концов, кто он на самом деле такой и для чего завладел моим телом. А потом заставить поменяться обратно — должен же он знать, как это делается!.. Да, с такими, как мои нынешние „соратники“, не забалуешь, у них свои методы убеждения: примитивные, но невероятно действенные. Хотя, однако ж, — в правоведе снова взяла верх привычка рассматривать все грани обсуждаемого вопроса, — им придется так или иначе причинить вред телу, в котором находится этот проходимец сейчас. Повредят что-нибудь, коновалы, а мне потом в изуродованной плоти доживать в муках… Дичь какая-то, так и рассудка лишиться недолго! И о чем это я вообще думаю?! — одернул себя Викентий Алексеевич. — Каков я, однако, эгоист! Прежде всего мой долг — защитить Свистунова, на жизнь которого вознамерились посягнуть, моего друга, просто несчастного наконец, а я… Подлая душонка!»
Думанского передернуло. Даже сейчас, в абсолютно безвыходной ситуации, сама мысль об убийстве вызывала у него величайшее отвращение. «И эти… они все же люди, хоть и закоренелые преступники, а человек создан по образу и подобию Божьему! Не я дал им жизнь и не мне ее отнимать… Постой, Викентий, снова ты не о том беспокоишься! Если не остановить этих злодеев, они, не задумываясь, убьют Свистунова, и ты точно никогда не простишь себе, если не воспротивишься этому. Верно сказано: не мир несу, но меч, а поднявший меч от меча и погибнет! Их трое против меня одного — ничего, справлюсь с Божьей помощью. Раздавлю как клопов! — скрипнул зубами Викентий Алексеевич с удивившей его самого яростью. — И не только этих троих: пусть против меня будет хоть десяток, хоть целый полк!!! Никому не дам и пальцем до него дотронуться! А мерзавца, который подло завладел моим телом, разыщу и без их помощи».