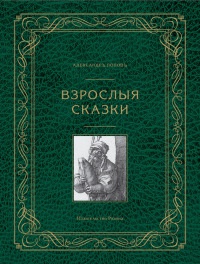Книга Тонкая нить - Наталья Арбузова
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Свадьбу сыграли в Павлово-Посаде. Жениху уж исполнилось двадцать пять, да и невесте шел двадцать пятый год – при всем желанье не скажешь, что поторопились. Бедному человеку и свадьба забота. В обледенелой мгле неприветливого фабричного Подмосковья только и радости было, что цветущие луга набивных павловских платков из тонкого, мнущегося дешевого кашемира. Та, еще более терпеливая медсестра Ульяна после смерти отставного дворника дяди Энгельса уволилась из Белых Столбов, забрала с собой юную экстрасенсорку Лизу и перебралась к зрячей Валентине под красную черепичную крышу, накрытую пуховым одеялом снега до весны. Двухэтажный дом, подобие замка, с изобильем комнат и крутыми лестницами, надежно спрятал давно таимую от людских глаз любовь ее к тому, кому более подобало поклоненье. А снег все подсыпает. Саш, синеглазый гражданин вселенной, обладатель аномального сверхъемкого мозга – притих, примолк в колеблющемся свете рождественских свечей. Слушает, как Илья Федорович с долго сохраняющимся рвением неофита читает вслух Евангелие от Луки.
Новая беда настигла Виктора Энгельсовича уже в конце февраля. Родители Лизиного однокурсника Кирилла Самоедова купили себе квартиру в элитном доме, прежнюю оставили сыну – ему сравнялось восемнадцать. Лизе еще нет, но Кириллу достались еще и «жигули» – одиннадцатая модель – у предков теперь «ауди». Покуда Виктор Энгельсович торчал на работе, парень при бессовестном попустительстве приживала Ильдефонса побросал Лизины шмотки в багажник, увез девчонку, и с концами. Спорить за четыре месяца разницы смешно, всем ясно – они ровня, еще кто кого соблазнил, неизвестно. Хорошо было оскорбленному отцу защищать дочь от посягательств негодяя-отчима… вот это роль. Теперь же волей-неволей проглотил Виктор Энгельсович обиду. Выгнал прихлебателя Ильдефонса и снова обиделся на весь свет. Осталось пять лет до начала отсчета – пятидесятишестилетнего возраста, успеет основательно осатанеть. А в ведомственном вузе начальство быстро шугают – слетел проректор Жабров, и Кунцов получил заведыванье, не прежней своей кафедрой, а нонешней. Новый проректор отчасти благодарен Кунцову, подложившему мину замедленного действия под Жаброва. Но это уже потолок… Выше не лезь, хуже будет… Понял? И со всей мощью накопленной злобы принялся Кунцов корчевать, корежить вверенную ему кафедру. Не поднимай головы, не высовывай носа, ложись на дно.
Неясное будущее пробивалось слабыми ростками, точно березка на балконе из раздробленного углового кафеля. В начале лета та, павловопосадская Ульяна родила сына Василья. Втируша Ильдефонс примчался проверить, нет ли тут чего из ряда вон выходящего. Так, на вскидку, ничего интересного не обнаружил, и Ульяшины родители его в одночасье выпроводили. Окраинный сгусток рассредоточенного мегаполиса навалился на Илью Федоровича враждебными выбросами и выхлопами. Сел, вытирая слезящиеся глаза, в сквере, доброго слова не заслуживающем. Раскалившийся на солнце пегий Ильдефонсов жигуленок отдыхал, уткнувшись мордой в жесткую травку. Илья Федорович уж было задремал, когда над ухом его произнесли строго: «Смотри за ним, он из обоймы». – «Есть смотреть!» – воспрял духом Ильдефонс, стряхнул сон и полез в машину.
Не получалось, хоть плачь, Павлово-Посад не принимал – ни усатого няня Ильдефонса, ни ласковой Валентины, и двойников Васяткиных родителей, Великого Магистра с сестрой милосердия не удавалось подсунуть. Что-то чуяли, неусыпно бдели. Бабушку Светлану с ее прорабом-мужем – пожалуйста, скупого Виктора Энгельсовича за милую душу. Приехал из Торопца Энгельс Степаныч с женой – привечали, не спрашивали, не с того ли он света. Настасьи Андревны прежде не видали, а старик, живой и крепкий, назвался Нилом Степанычем, то и не въехали толком. Так не опознавши и проводили. А всем этим мутным от ворот поворот… непробиваемый заслон, железный занавес. Голова ребеночка еще светилась в темноте где-то до года. Потом перестала, и первое слово его было: дай. Дальше всё как у всех.
Прадедушку Энгельса, не поленившегося ехать за сто верст киселя хлебать – повидать Васятку – ныне отпустили. Вернулся в Торопец – Настасья Андревна, следовавшая теперь за мужем, ровно нитка за иголкой, вроде бы ничего плохого не заметила. Вошел в дом, доставивший ему, хозяину, столько треволнений. Лег под образа, лишь недавно повешенные – год назад крестился во имя пустынника Нила, следом за всеми. Отщепенцем стать не мог, не так воспитан. Лавка постелена была шерстяным половичком – вторая жена вязала. Поворотился на спину, ненароком скрестил руки, уснул, да так хорошо, что и не проснулся. А куда ты пошла, его душенька, а и много ль тебе помог сильный твой святой? Похоронили – так на кресте и написали: Нил Степаныч Кунцов. Живи, ядерная физика, не помни имени своего тюремщика.
Наступленья полного сиротства Виктор Энгельсович не ощутил, поскольку примирился со смертью отца полтора года назад. Внук его мало трогал, и рана, нанесенная отъездом дочери, не заживала. Вероника Иванна попробовала было сунуться на Войковскую, но дальше порога не проникла – долго заикалась после неудавшегося визита. Что опоганенный Альбиною дачный участок ему возвращен, Виктор Кунцов знал. Даже дал Валентине устное разрешенье – по телефону – там строиться, но появляться в тех краях не осмеливался. Зрелище коттеджа, рушащегося подобно карточному домику, его преследовало. К тому времени завелись у Виктора Энгельсовича друзья-собутыльники, готовые принимать его на своих дачках всякое воскресенье, да еще привозить-отвозить на собственных машинах. Аккуратно ставя ноги промежду грядок, входил он в их тесный угодливый мирок. Садился за садовый столик, ел ихние кабачки и милостиво молчал. Круговое это гостеванье импонировало скупости Виктора Энгельсовича. В будни сидел на кафедре, в своем кабинете, с початой бутылкой в холодильнике плюс непочатая в дипломате. Своего собственного адреналина у Виктора Энгельсовича больше не вырабатывалось, но он хмуро терпел, пил лишь по окончании рабочего дня – дисциплина была у него в крови. Отпуск проводил в санатории, пристрастившись к режиму – не из роду, а в род. Зимние каникулы отпуском не считал. Вот и весь отчет о жизни Виктора Энгельсовича. На Войковской уж все домовые спали, когда он появлялся. Сейчас, мартовским талым днем, сидит он на большой перемене в аудитории с портретами математиков под потолком. В крыше окна, на одном валяется дохлая ворона, хорошо видная через стекло. Роковой, контрольный, тот самый день, но Виктору Энгельсовичу ни к чему. Проставляет оценки за блок в ведомость. Прячет ее в дипломат, отягощенный бутылкой. Не успевает защелкнуть – растворяется окно наверху. Возле распахнутой рамы, расставив неловкие ноги, стоит Ильдефонс. Склоняет в люк бесформенную голову, говорит негромко: пора, Виктор. Профессор Кунцов хватается за левый нагрудный карман, будто что ища, и оседает на стуле, уронив открытый дипломат. Подружка-бутылка подкатывается ему под ноги, и никто никуда его не зовет, и никто ни о чем не спрашивает.
Когда загорелись торфяники – не сейчас, в эту аномально сухую, чертовски красивую осень – нынче дымит по мелочи, а в девяносто девятом горело как следует – из вредности не тушили, пусть горит ясным огнем. Что где выгорело, тут же под коттеджи, деньги на бочку. Горелая вырубка вблизи военного городка осталась нераспродана – должно быть, зарезервирована под его расширенье. С ближней опушки корпусов не видно, получился во такой новый пейзаж. Березняк выгорел чисто… то-то небось полыхали березовые поленья в полтора обхвата. Уцелел далеко выступающий клин сосен – очень похоже на альпийские фотографии в семейном альбоме доцента Антона Ильича Кригера. Несмотря на столь жесткую фамилию, человек этот робок и растяпист. Осьмушка немецкой крови в нем давно обрусела, задавленная семью восьмыми долями русской. Однако за глаза никто его иначе как немцем не зовет. В глаза же чаще всего называют Ильичом. Худой, нервный, сидит на пне. На двух соседних расположились друзья его: художница Нина Изволова, столь же худая, но несколько более спокойная, и муж ее Ярослав Захотей – изрядно красивый, однако толстяк, хватило бы на троих. По дальней опушке, освещенной солнцем, стройно проходит Аполлон Мусагет – ведомые музы пританцовывают под неслышные здесь звуки его лиры, цепляя пни легкими одеждами. Ближняя опушка в распоряжении Пана: он крадется в тени подсушенных пожаром сосен, водя темными губами по немецкой губной гармонике… свирель вчера потерял где-то поблизости… а, вот и она. Отшвырнув гармошку, заводит свое на свирели. За ним зачарованно следуют козы Зинаиды Андревны Соковой – та поотстала, продираясь сквозь ветвистый недавний валежник. Поет хорошо поставленным меццо-сопрано: сама садик я садила, сама буду поливать. Не как-нибудь, а ездит в хор при московской мэрии. Мотают выменами породистые козы с серьгами в ушах – длинными локонами шелковистой вьющейся шерсти. Крепко сдружились – Пан, Зизи и умная коза Бэла, предводительница стада из четырех голов. Остальные три образуют кордебалет: еще две белые, одна темно-серая. Антон Кригер провожает печальным взором обе процессии: дальнюю, что на солнце, и ближнюю, что в тени. Да, Нина… они заблуждаются относительно своего превосходства… Такие же неряшливые, неумные и вороватые… Так же чистят картошку, сидя на корточках, и ходят в халатах по улице… Только лишены детской непосредственности узбеков, их щедрости, ощущенья праздничности жизни… Подумаешь, цвет нации… Партийные колонизаторы. Это он пыхтит на русско-татарскую семью Маматовых, унесенную ветром из ташкентского пригорода и нагло гребущую все преимущества статуса беженцев. Нина, они живут ненавистью… Этот Владислав Маматов дежурит на Казанском вокзале, ездит весь день в электричках… Понимает узбекский, таджикский и еще какой-то кулябский… Отлавливает чурок, гребет деньги… Бедных, только что приехавших тащит за шкирку в опорный пункт комитета по борьбе с незаконным оборотом наркотиков… Их там нещадно бьют… Слухом земля полнится… Сам же и бьет… Приходит здорово накачавшись… Вижу около него черный круг… вот как этот уголь. – А возле меня какой? – Светлый, Нина и очень ровный. Как ваши фрески? подвигаются? – А то! конечно. «Сама садик я садила» уж не слышно, Ярослав заводит «За родником белый храм». Слуха нет, но голос приятный – бывает и так. Антон Ильич, дриада появлялась? вот Нина хочет ее ваять. – Приходила… только она уже изваяна… «Березка» Голубкиной… один к одному.