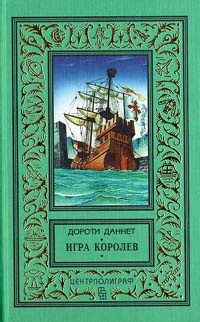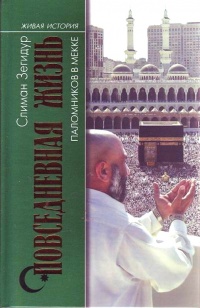Книга Игра кавалеров - Дороти Даннет
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Обвинения в воровстве и предательстве, выдвинутые лордом д'Обиньи, не имели под собой реальной почвы; с какой бы горячностью двор не ухватился за них, чтобы излечить свою израненную гордость, осудят Лаймонда совсем за другое.
Он будет уничтожен за то, что обвел их вокруг пальца, за власть, которую имел над ними, за внимание, которое заставил оказывать себе. И чтобы спасти свою шкуру, раз он позволил себе решительно отказаться от помощи королевы и О'Лайам-Роу, Лаймонд попытается залечить уязвленную гордость. Сейчас он обращал против О'Лайам-Роу каждый довод, который принц Барроу раньше использовал сам, чтобы французский двор увидел себя в новом свете — не как его дружков, собутыльников или жертв хладнокровного разврата, но как жрецов искусства. И, споря с ним, играя его прежнюю роль, О'Лайам-Роу слушал собственную философию из уст другого человека и видел все ее недостатки.
— …Чувство, — говорил Лаймонд, завершая свою речь, толкующую о способности пьянства, распущенности и полной свободы от условностей вдохновлять артиста. — Чувство надо отделить от разума, и разум вернется обновленным.
— Да, господин Кроуфорд, — заключила Екатерина. Она сидела, скрестив изящные ноги; руки ее, унизанные кольцами, лежали неподвижно. — Но пример заразителен, а пример гения заражает быстрее, чем какой-либо иной.
— Но и артиста поражает болезнь, — заметил О'Лайам-Роу. — То, что ты попал в эту мясорубку при Тур-де-Миним, стало твоим спасением, и ты знаешь это. Когда ты перестал владеть собою, ты перестал владеть и своим искусством.
— Я приехал во Францию в поисках свободы, — заявил Лаймонд.
Лучники, стоявшие вокруг него, отступили: он остался один в центре комнаты со связанными руками. Он уже не проявлял нетерпения, и лицо его в неярком свете выглядело бодрым и настороженным.
— Похоже, ты нашел себе здесь тюрьму, — сказал король, и на мгновение его взгляд остановился на коннетабле, старом приятеле. Затем он с присвистом вздохнул, и этот вздох прорезал тишину, воцарившуюся в комнате. — А разве не правда, что таланту, творящему только на воле, иногда на пользу клетка? Разве невзгоды, болезни, бедность, гонения не учат дисциплине, необходимой для создания совершенных творений? И все же… — тщательно выбирая слова, произнес задумчивый голос, — ты не похож на человека, не умеющего владеть собой. Возможно, перед нами артист, который изучает людей и себя по отношению к другим? Любитель заранее построенной игры, улавливающий вечно изменчивые, причудливые формы душ и стравливающий их; смотритель зверинцев…
Ты делал это ради воровства или чего-то худшего, за что мы и осудим тебя на смерть, или же ты делал это, не имея в виду иной цели, кроме озорства, внушенного дьяволом. Мне следовало бы осудить тебя, даже если бы ты нарушил таким образом покой трактирных слуг. Может, тебе приятно будет сознавать, что если бы ты не упал, то мог бы растлить целую нацию и обратить само наше величие против нас. Мне жаль, — сказал Генрих Французский, обратив взгляд темных глаз на вдовствующую королеву, которая сидела в кресле прямо и неподвижно, на жену, коннетабля, на всех хранящих молчание придворных, на бледного, мрачного О'Лайам-Роу и повернувшись наконец к невозмутимому Тади Бою Баллаху, которого все они когда-то считали сокровищем, — мне очень жаль, но искусство без совести подобно гепарду, которого невозможно приручить. В назначенном месте ты будешь сокрушен и твоя музыка вместе с тобой.
«Не имея в виду другой цели, кроме озорства!»
— Матерь Божия! — в ярости завопил О'Лайам-Роу и в три стремительных прыжка очутился подле Марии де Гиз. Тяжелое бесстрастное лицо даже не повернулось в его сторону.
— Дорогой мой Филим. — Опережая королеву, Лаймонд шагнул к нему; голос его звучал сухо, по-деловому, на лице мелькнула тень раздражения и еще какое-то чувство. — Кажется, я завяз глубоко, но ты скорей всего нет. Так как тебе не удастся исправить положение, позволь мне пожинать плоды того, что я посеял. А сам пойди и напейся.
Это было сказано беззлобно. Филим О'Лайам-Роу и его оллав долго и пристально смотрели друг другу в глаза, затем принц Барроу развернулся и, не заботясь о том, кого он может толкнуть, бросился вон из комнаты.
Пайдар Доули был застигнут врасплох. Он вприпрыжку пустился вслед за хозяином, приговаривая свистящим шепотом:
— Храни нас небо: есть еще умные люди на свете. И куда теперь, принц Барроу?
В лице, обращенном к нему, он едва узнал черты Филима О'Лайам-Роу, старшего в роде: так изменила их целеустремленность и бурный, смешанный с отчаянием, гнев.
— Такой счастливчик, как ты, отправится домой спать, — отозвался он.
Пораженный Доули на секунду отстал. Затем, догнав хозяина, осторожно спросил:
— А вы сами, принц? Куда вы направляетесь?
— В дом Кормака О'Коннора, приятель. Куда же еще? — ответил Филим О'Лайам-Роу, ценитель покоя, живое воплощение беспечности.
Уже наступило воскресенье, двадцатое июня, и первый, прикрытый серою дымкой свет нового дня вскоре озарит деревья в парках Шатобриана и блеснет на темных водах пруда.
Испытание не просто провести без доказательств. Если доказательства необходимы, их можно потребовать законным путем, без любви или ненависти. В чем причина того, что доказательств требуется больше для чужеземных рабов, чем для ирландских? Может, потому, что у ирландского раба больше надежды стать свободным, чем у чужеземного, на его долю и выпадет труднейшее испытание?
Его не впустили — да и кто бы открыл дверь взбесившемуся ирландцу, помешанному соотечественнику в половине четвертого утра? Заспанный управляющий госпожи Бойл захлопнул решетку, и О'Лайам-Роу перелез через две стены, взломал ставень и прыгнул в гостиную, где пьяный Кормак О'Коннор, тяжело храпя, валялся среди рассыпанной золы, на том самом месте, куда рухнул со стула накануне вечером.
О'Лайам-Роу с интересом воззрился на него, затем, перешагнув через ягодицы великана, распахнул ближайшую дверь.
Зеленоватый лунный свет заливал спальню. Комната была неприбрана, всюду валялась женская одежда, а пахло старым деревом и пыльными травами, как в школьном классе. Не останавливаясь, Филим прошел прямо к деревянной походной кровати, смутно вырисовывающейся в углу. Там, свернувшись под тонкой простыней, спала женщина, утопая в темных волнах волос.
В соседней комнате, оплывая, догорала свеча. О'Лайам-Роу проворно зажег вощеный фитиль и принялся передвигаться от подсвечника к подсвечнику, от лампы к торшеру, пока спальня и гостиная не озарились ярким светом. Уна О'Дуайер, белолицая, чернобровая, оторвала от белой подушки свою черноволосую голову, с изумлением посмотрела на принца расширенными глазами, черными, как цветы ночью, и хрипло спросила:
— Он умер?