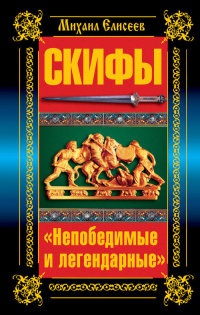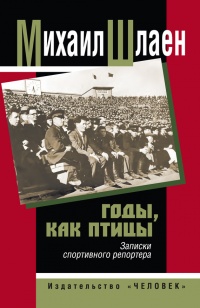Книга Ненависть - Иван Шухов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Бутяшкин — гнида! Прижми к ногтю — ни пыли, ни вони.
— А вот возьмет и подрежет нас с воровиной,— кипятится Роман.
Не подрежет! Мы из старых тяжей постромки навяжем. Есть у меня такие на примете.
Ну хорошо, постромки добудем. Но ведь, кроме постромок, нам бороны «зигзаг», дядя Мирон, нужны.
Нужны,— отвечает Мирон.
— А садилку надо?
— Слов нет — и садилку надо. Больше скажу, Роман: нам и трактор-машину надо. Больше того: четыре трактора надо! Да ведь их пока нет? Нет. А на нет и суда нет. Стало быть, зубами рвать целину придется. Ну что ж, понатужимся, попробуем и зубами. Мы ведь народ не из робких. Как ты думаешь?
— Это верно, дядя Мирон, не из робких,— соглашается Роман. Но мечта о тракторе, о боронах «зигзаг», о новых садилках не покидает его, не перестает думать Роман о сложной механической силе, такой необходимой в хозяйстве.
…Отправив подводы за семенами на станционный элеватор, Роман поздним вечером решил пойти в районный центр зарегистрировать новую сельскохозяйственную артель, организованную им из аульных пастухов и
бедноты хутора Арлагуля. Перед тем как покинуть хутор, он заглянул в школу.
Линка уже спала. Роман, осторожно постучавшись в окно, разбудил ее. Сквозь холодное мглистое стекло он увидел неясный облик девушки.
— Пока, Линка! — крикнул он через одинарную оконную раму.— Иду в райцентр регистрировать нашу артель. Попробую там похлопотать насчет сеялки…
Линка что-то крикнула ему в ответ, но он не расслышал слов, хотя ему показалось, что он уловил ее теплое дыхание. И, согретый этим кротким девичьим дыханием, он бодро зашагал навстречу ветру, бушевавшему в степи.
Мирон Викулыч затемно возвращался домой с колхозного двора. Деловитый и требовательный на людях, дома он становился тише воды, ниже травы: овладевала им та беспричинная робость, которую привык он испытывать смолоду перед своей сварливой и вспыльчивой, как порох, женой — Арсентьевной. Нельзя сказать, что Арсентьевна имела полную власть над мужем, что он безропотно подчинялся бабьей воле во всех житейских делах. Взаимные словесные перепалки между супругами кончались, как правило, тем, что Мирон делал все по-своему, а Арсентьевна молча мирилась с этим. Однако Мирон Викулыч всегда старался не раздражать жену, отвести от себя лишний грех.
Нелепо было, конечно, в его зрелом возрасте вести себя дома, как провинившемуся мальчишке. Но вел он себя именно так. Запоздно возвратившись домой, когда Арсентьевна, управившись по хозяйству, отдыхала на любимой лежанке, Мирон впотьмах сновал по кухне, бесшумно и как бы не дыша.
Разувшись у порога — не наследить бы по чистому полу! — Мирон Викулыч пробирался бочком к столу. Здесь он ощупью находил прикрытый холщовым полотенцем горшок топленого молока, заварные калачики или каральку, заботливо припасенные для него женой. Мирон Викулыч совершал запоздалую трапезу в полном безмолвии и, наспех осенив себя крестным знамением, отправлялся на покой.
Спал он зиму и лето на полу, бросив посреди горницы старенькую жесткую кошомку и положив в изголовье полушубок. Подушек он недолюбливал, да и жалко было трогать их в буднее время с высокой, прибранной деревянной кровати.
Повалившись снопом после ужина на привычное жесткое ложе, Мирон, однако, засыпал не сразу. Он любил этот глухой, поздний час обжитого домашнего тепла и покоя. Хорошо полежать после долгого трудового дня посреди чистой и тихой горницы, где пахло геранью, новыми кожаными передами и заткнутой за божницу степной травой. Хорошо дать полный отдых вольно раскинутым по полу, гудящим от усталости, уже не молодым, но все еще сильным, жадным до работы рукам.
Хлопот и забот за последние дни и недели был у него полон рот. Мирон Викулыч всегда хорошо себя чувство-пил не в уединении со своими мыслями, а на миру, на народе. Его тянуло к людям, и работа вдвойне спорилась, если рядом трудился другой человек. Вот почему лучшей порой в году он считал осеннюю молотьбу, когда мужики, объединясь вокруг единственной на хуторе конной молотилки, производили артелью обмолот урожая хлебов. Трудовая сутолока односельчан на току всегда будоражила, как легкий хмель, веселую от природы и деятельную натуру Мирона. Все его здесь радовало: и неистовый грозный рев захлебывающегося розвязью молотильного барабана, и озорные крики примостившим и па конном приводе подростков-погонщиков, и неутомимое мелькание бабьих рук, проворно работающих у молотилки.
Мирон Викулыч подавал в барабан увесистые снопы пшеницы. В залатанной сатиновой рубахе, в громадных дымчатых окулярах, защищавших глаза от бушующих вокруг вихрей зерна и половы, стоял он на подмостках барабана. Он чувствовал себя в разгар дружной артельной работы как бы крепче сбитым и ладнее скроенным. Светло и жарко было у Викулыча в такие дни на душе, словно вновь разгорался в нем, кидаясь по жилкам, былой огонь озорства, силы и молодости, когда и сам черт ему не брат и любое море по колено…
В такой час, то и дело поглядывая сквозь окуляры на работающих баб, Мирон, будто играючи, с каким-то веселым ожесточением бросал в ревущую пасть барабана растерзанные на пряди снопы. Барабан, на мгновение захлебываясь непрожеванной розвязью, то дико и грозно ревел на густой, низкой ноте, то с яростью вырывал из рук Мирона золотые пряди пшеницы, глотал их с лихим при-
свистом и поливал людей, копошившихся на току, золотым фонтаном зерна, перемешанного с соломой и горькой горячей пылью.
Мирон слыл за лучшего подавальщика, и мужики не знали ему цены. Нарасхват рвали его в молотьбу, потому что от умелой подачи в барабан снопа или розвязи зависел примолот хлеба. А Мирон в этом деле так наторел, что по праву народ называл его мастером — золотые руки.
Мирон Викулыч охотно кочевал с чужой молотилкой по гумнам и неутомимо трудился у барабана. Дело тут было не только в заработке, сколотить рублишко-другой на разживу он мог и сидя в избе: был он неплохим умельцем в бондарном и шорном деле, в два счета мог смастерить бабе шайку или кадушку, а то сварганить для справного мужика искусно украшенную медным набором уздечку или тонко сработанную шлею. Однако горячий артельный труд на миру, под открытым небом он всегда предпочитал уединенному сидячему ремеслу и занимался им только в длинные зимние вечера или в осеннюю непогодь.
События последних дней и недель, перевернувшие вверх дном всю доселе внешне спокойную жизнь хутора, не прошли мимо Мирона Викулыча. От природы жадный и любознательный до всего нового, он не мог стоять в стороне от людей теперь, когда они засучив рукава смело взялись за решение своей судьбы. Всем миром, артелью — стена стеной, готовились они к поединку с врагами новой жизни. Бой предстоял не из легких. Немалые силы и с той и с другой стороны вдруг поднялись на дыбы. События на хуторе можно было сравнить только с ледоходом на внезапно взломанной ураганным ветром реке. С пушечной пальбой, с чудовищным воем и грохотом кромсались и рушились в порошок разбитые льдины, и озорная река, сбросив с себя броню, буйно зашумела в степи, широко и вольно даруя простору светлые воды.