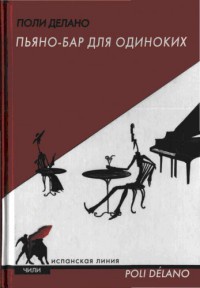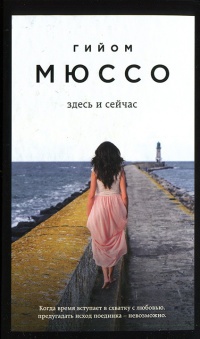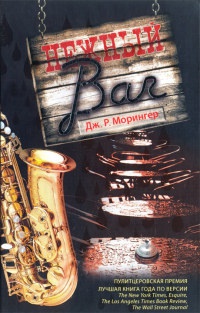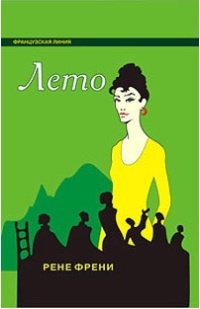Книга Йод - Андрей Рубанов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Я бухаю, – возразил Миронов.
– Но не под объективами светских фотографов.
– Это да.
– Согласись, одно дело – просто бухать, а другое дело – бухать под объективами светских фотографов.
– Лучше просто бухать, – убежденно сказал Миронов.
– Ты прав, брат! Ты прав. Но давай проследим за дальнейшей судьбой красивого героя. В тридцать девять он снова летит через океан, в Испанию. И привозит оттуда антифашистский роман «По ком звонит колокол». Новая порция денег и славы! Голливуд экранизирует все его книги! Хем уезжает на Кубу. Покупает яхту. Идет Вторая мировая война, люди горят в печах, под Сталинградом заживо замерзли триста тысяч немцев и гораздо большее, но неуточненное количество русских. В это время героический писатель мужественно патрулирует курортное Карибское море в поисках немецких подводных лодок. Это как если бы мы с тобой, Миронов, сейчас, в две тысячи втором, сели в «хаммер» и стали патрулировать подмосковные леса в поисках чеченских диверсантов. В перерывах между патрульными заплывами Хем бухает, бьет морды и пишет роман «Острова в океане». Роман пишется плохо, и со временем герой решает опубликовать одну из частей как самостоятельную повесть. «Ста6 рик и море». За эту повесть смельчаку, герою, ветерану и борцу со злом тут же дают Нобелевскую премию. Но лауреат уже заскучал. Он пытается осваивать Африку. Охотится на львов, а целая орава слуг таскает за ним багаж. Пишет знаменитый рассказ «Снега Килиманджаро», где обливает грязью своего друга Фицджеральда, проклинает женитьбу на богатой женщине и отдельно проклинает ее приятелей, которые приучили его к безделью. Непрерывно бухает. Его можно понять. Все сделано. Львы застрелены, фашисты побеждены, морды набиты. Всемирная слава и авторитет. Красивая судьба должна быть красиво увенчана сильным финалом – и чувак стреляет себе в рот. Настоящий мужчина, несгибаемый борец. Что скажешь?
Миронов усмехнулся.
– Скажу, что он видел реальную жизнь только в бинокль.
– Ты опять прав! Но почему тогда миллионы людей во всем мире считают его эталоном мужчины? Миллионы не могут ошибаться.
– Могут, – сказал Миронов. – Миллионы тоже видят реальную жизнь в бинокль. Или, чаще, по телевизору. Миллионы побаиваются реальности. Миллионы хотят не реальную жизнь, а еще более качественный телевизор. И они правы, миллионы. Каждому отдельно взятому человеку вполне хватает своего личного фрагмента реальной жизни. Семьи, работы, квартиры. Детей, родителей, друзей. Внутри этого персонального фрагмента отдельно взятый человек полностью компетентен. Зачем ему остальная реальная жизнь? Она может больно ударить. Достаточно того, что о ней рассказывает телевизор. Или Хемингуэй.
– А ты? – спросил я.
– Что?
– Почему ты, Миронов, не ограничился одним личным фрагментом реальной жизни?
– Пошел ты к черту, – грубо сказал Миронов. – Ты тоже не ограничился. Тебе тридцать три – какую по счету судьбу ты живешь? Третью? Четвертую? Ты знаешь ответ. Ты не веришь телевизору. И Хемингуэю. Ты сомневаешься. И я тоже. А это, знаешь, великая благодать. Сомневаться. Не каждому дано. Ты сомневаешься даже в красоте...
– Очень, – сказал я. – Очень сомневаюсь. Красивое всегда лжет. Даже самая искренняя красота, самая чистая, внутренняя, душевная, нравственная красота немного привирает. Только безобразное всегда абсолютно правдиво.
Тут мы с Мироновым крупно вздрогнули – под самыми окнами кухни прошли несколько возбужденных аборигенов: судя по голосам, молодых людей в сильных стадиях опьянения. Пьянство в моей стране тотально, оно внутри и снаружи, ты пьешь в доме, люди в это же самое время пьют на улице ту же самую водку, это веселит и объединяет.
Я сдернул через голову майку.
– Смотри. Видишь?
– Вижу, – спокойно ответил Миронов. – Какая гадость. Зачем тебе это?
– Не знаю. Но помогает.
– Ты только вены не режь, – спокойно предупредил Миронов. – Во-первых, с первого раза не получится. А во-вторых, не сезон.
В городском морге дали справку: причина смерти – отек легких. То есть брат моей матери задохнулся. Его нашли дома, уже остывшим. Наверное, заночевал где-то на холодной земле, спьяну, и получил воспаление. Соседка сверху сказала, что много дней подряд слышала тяжелый кашель. Но, в общем, кашель и прочие детали никто не обсуждал, все понимали, что человек умер от водки, и больше ни от чего.
Уже не один год его смерти ждали. Родственники – спокойно, а соседка сверху, наверное, менее спокойно – в доме были газовые плиты и она боялась однажды взлететь на воздух.
Скорбящих набралось едва десять человек: я, мать с отцом, соседи и три старухи, тетки умершего, а мои, значит, двоюродные бабки.
В моем городе, как теперь и в любом другом, похороны, слава богу, давно уже не сопровождались напряжением сил и нервными перегрузками. Пришел, уплатил, и тебе все сделали: и венки, и транспорт, и домовину, и яму. «Вам назначено на двенадцать, в половине первого опускаем, не опаздывать». «Пройдите согласовать меню поминального стола».
Я развалил бы Советский Союз и установил самый циничный и грубый капитализм только для того, чтобы дать возможность людям вот так, без беготни и унижений, закапывать своих мертвых.
Четверо чуваков с постными лицами вытащили дядю из автобуса, поставили гроб во дворе, на серый, очень старый асфальт, помнивший, может быть, еще Сталина и, безусловно, помнивший меня. Здесь я прожил целый год, первый наш год после переезда из деревни в город. В квартире бабушки – там же, где умер дядька Игорь.
Я огляделся. Двадцать пять лет назад в нескольких шагах отсюда, на углу дома, я каждый день по часу, а то и больше, разговаривал с другом по дороге из школы; трепались о мушкетерах, об инопланетянах, о теореме Ферма. О топологии, о спутниках Юпитера, о романе Клиффорда Саймака «Кольцо вокруг Солнца».
Я вырос. Дядя умер. Солнце и асфальт остались на своих местах.
Первыми приблизились тетки.
– Нормальный, – удовлетворенно сказала старшая, ей было под восемьдесят. – Хорошо выглядит. Все ж таки Филиппыч – молодец.
Филиппыч был известный на весь город умелец обрядить и накрасить покойника. Ему полагалось заплатить отдельно, в руку сунуть. Покойники Филиппыча выглядели очень красиво.
Средняя тетка долго смотрела, качала головой, поправила племяннику волосы на лбу, подоткнула покрывало, словно спящему – простыню. Потом придирчиво осмотрела ящик и пробормотала:
– Ай, хорош гробок. И мне б такой же.
Поискала глазами, кому адресовать сказанное, посмотрела на меня; пришлось коротко кивнуть – мол, сделаем.
– Ладно болтать, – презрительно сказала старшая. – Вон, как коза бегаешь. Я давеча видела, как ты за автобусом припустила, вприпрыжку, навроде Брумеля.