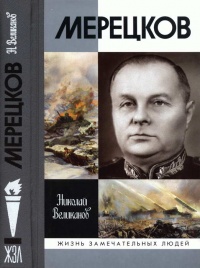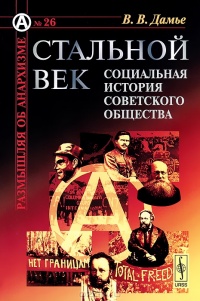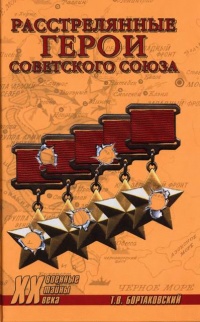Книга Дядя Джо. Роман с Бродским - Вадим Месяц
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Красномордый, растрепанный, с левым закрывающимся глазом, что часто бывает со мной в состоянии опьянения, передвигаться я мог с трудом. Я скрутил нотную тетрадь в трубочку, положил ее в карман и поковылял туда, куда, по моему мнению, должен пойти человек в моем положении и кондиции.
На Мортон-стрит, 44, к Дяде Джо.
Проникновения в дом я не помнил, но оно, очевидно, произошло, потому что часам к двенадцати я обнаружил себя в кресле посередине комнаты, густо увешанной фотографиями, открытками и репродукциями. На большой черной конторке стояли венецианская гондола средней стоимости и бюстик Пушкина. Гондола и Пушкин находились в какой-то странной связи. Книги, печатные машинки, кофейные чашки. Я встал в поисках бутылки и пошел на кухню. Открыл наугад несколько шкафчиков. Подошел к холодильнику.
— Я знал, что вы полезете опохмеляться, — раздался голос Дяди Джо, — но за пивом, извините, не сходил.
— Я не пью пиво утром, — ответил я машинально и обернулся к поэту.
Тот был в какой-то робе, словно только что убирал листья во дворе.
— Прогуливался в саду, — пояснил Бродский. — Отличный внутренний дворик. Намного приятнее тюремного.
— Извините за вторжение, — собрался я с мыслями. — Мне казалось, стихотворение удалось настолько, что мне необходимо с вами поделиться.
— Как раз за это я вас и простил, — сказал Дядя Джо, посмеиваясь. — Только вот зачем вы ломились к Маше? Она преподает сегодня. И тут среди ночи — уральский, так сказать, пельмень.
— Сибирский, — поправил я Бродского. — Пойду извинюсь перед Машей.
— Прекратите похмельные штучки, — прикрикнул Иосиф. — Где ваша алкоголическая гордость? Нажрались — так нажрались. Повод был. Подтверждаю.
Выпить хотелось до безобразия. Дядя Джо обратил внимание на мои бегающие глазки и с пренебрежением бросил:
— Остался «Бейлис» от гостей, на кухне.
— Я его тоже не люблю.
— Пижон! Пиво не пьет, ирландский ликер презирает! Золотая молодежь. Профессорский сынок за границей. Откуда в стихах Мама Гусыня?
— Да она была там.
— Точно?
— Точно.
— Значит, кого-то другого приплели ни к селу ни к месту. Вам серьезно повезло, что я не спал.
— А то что бы вы сделали? Пристрелили?
— Я пристрелил однажды ночного вора.
— Наслышан. Весь город только и говорил об этом.
Бродский лукаво посмотрел на меня.
— Запомните раз и навсегда. Появляетесь только по предварительному звонку. А лучше вообще не появляетесь. От вас всегда неприятности. Кот убежал сегодня.
— А я бы съездил с вами в какие-нибудь доисторические пещеры. Неужели вам не понравился поход в тюрьму?
Бродский пожал плечами.
— Я бы предпочел музей. Или библиотеку. Хм. В вашей тюрьме было интересно. Проституткам не звонили? Я помню, вы записывали номера.
— Звонил, — соврал я. — Договорился с одной встретиться в центре, у городских часов. Подъехал — а там страшилище в перьях. Я развернулся — и поехал домой.
— Исключительно избирательный молодой человек. Вы мне прислали стихи. Вот.
Про меня, что ли?
— Да нет. Что вы. Просто образ поколений.
Я расстроился и засобирался на Варик-стрит.
— Не терпится хряпнуть?
— У меня в четыре часа семинар в Стивенсе. Чехов. Хочу рассказать про «Вишневый сад».
— Содержание помните?
— «В Москву! В Москву!»
Я был в этом доме, на втором этаже, уже после смерти Бродского. Заходил с Гандельсманом, секретарем Солженицына Серебренниковым и издателем Володей Аллоем в пустую квартиру. Маша Воробьева[101] поручила Гандельсману кормить кота. Заезжал потом еще пару раз, но на первом этаже больше никогда не был.
Вернувшись домой, я застал Гандельсмана в компании с Крюгером. В доме пахло жареной свининой и луком. Они пили водку и по очереди повторяли:
— Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет.
— Без водки мясо только собаки едят. Что празднуем? — поинтересовался я.
— Дикция, — воскликнул Беня, завидев меня. — В поэзии в первую очередь важна дикция. Где вы ночевали, молодой человек? Звоню вам второй день. Решил вот навестить.
— Ночую я у женщин, — сказал я первое, что пришло на ум. — А о встрече мы не договаривались.
— Выпьете с нами? — спросил Крюгер.
— У нас с Володей prohibition, — сказал я и ткнул рукой в сторону плаката.
Нашего меморандума на месте не оказалось. Володя развел руками, показывая, что его насильно споили.
— Тебе звонил Парщиков. Он сейчас в городе. Остановился у Лемберского. — Он чокнулся с Крюгером за здоровье всех присутствующих.
— Времена меняются, — вздохнул я. — Еще пару дней назад мне пришлось отказать в компании такой прекрасной женщине.
— Женщины меняются вместе с временами, — пошутил Бенджамин.
Выглядели они как старые приятели. Оба бородатые, не в меру жизнерадостные, в одинаковых старперских джинсах Levi’s.
— У вас униформа такая? — спросил я.
Гандельсман, который знал наизусть чуть ли не всего Евтушенко, продекламировал:
— Про вашу любовь по городу ходят слухи, — хохотнул Крюгер. — Это правда? Или просто интересничаете?
— Это правда, — опередил меня Гандельсман. — Мы решили познать друг друга.
Я вынул с полки антологию американской гей-поэзии, только что вышедшей у Фостера в «Талисмане».
— Word of Mouth. Лучше не скажешь.
— Вы там тоже участвуете?
— Мы еще не сделали coming out, — сказал Гандельсман. — Готовим речь, должную перевернуть сознание русской диаспоры.
Шутки в подобном дебильном стиле продолжались еще какое-то время, пока к нам не заглянул Большой Василий. В общении с ним я находил гораздо больше интересного, чем в разговорах о судьбах русской интеллигенции. Слесарей и электриков не волнуют умственные абстракции. Васька предлагал поехать всей компанией на пикник. Я после бессонной ночи отказался. Сослался на то, что шарахался вчера по кабакам и мне бы хорошо отмокнуть. Василий с подозрением посмотрел на Крюгера, хлопнул с мужиками стопку водки и растворился.