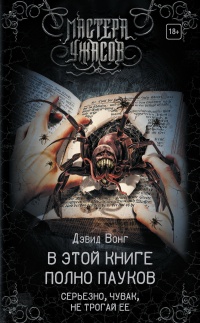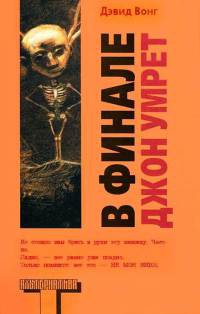Книга Мельмот - Сара Перри
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Мне жаль. – И это правда, Хелен действительно испытывает укол жалости при виде босых ног Мельмот, которые оставляют на ковре кровавые следы. – Мне жаль, но надежда есть, и я чувствую ее у себя в груди, как боль! Я должна, должна попытаться!
В Мельмот происходит перемена. Только что она была сама доброта, сама вкрадчивая любезность, только что в ней еще оставалось нечто от застенчивости той молодой женщины с умоляющим взглядом, которой она на краткое время притворилась, – и вот она уже холодеет, застывает, как каменные гротески высоко на замковой стене. Она пригибается, не помещаясь под низким темным потолком, волосы вьются по обеим сторонам лица жирными прядями, то взлетая, то опадая. Алые губы растягиваются в широкой ухмылке.
– Идиотка! – рявкает она и смеется, и этот смех звучит не только жестоко, но и отчаянно. – Идиотка! Тогда я оставлю тебя упиваться стыдом. Думаешь, ты сможешь заслужить искупление? Думаешь, ты сможешь загладить вину? Искупление невозможно, надежды нет, и тебе не уравнять чаши весов!
(Вы думаете, только злоба вынуждает ее так разговаривать с Хелен? Думаете, это только негодование? Нет, это ее одиночество, ее горе!) Тени на стене становятся глубже, пульсируют, обретают плоть, и Хелен видит Йозефа Хоффмана, который стоит на коленях, и Франца и Фредди Байер, которые колотят и пинают его; видит Безымянного и Хассана на берегу Черного моря, среди разбросанных мешков; видит Розу, которая скребет по простыне и кряхтит от боли и от облегчения. Лампы в зеленых плафонах гаснут одна за другой, и что-то мелькает за окном – это сотни галок несутся по улице и в бессильной ярости бросаются на окна. Мельмот кричит, но за галочьими воплями, за стуком бьющихся о стекло птичьих тел, раскалывающихся клювов, ломающихся крыльев Хелен не может разобрать ее слов. Окно разбивается вдребезги, и птицы оказываются внутри, беспомощно барахтаются и бьются на ковре, разевая клювы: как? как так? как?
И вдруг лампы снова загораются зеленоватым светом, как будто лучи заходящего солнца пробиваются сквозь сумрачный лес, и Тея снова говорит: «Она идет», привставая со стула, и официанты в белых рубашках, подходя к окну, вскрикивают от удивления, различив на треснувшем стекле отпечаток птицы.
– Хм. – Тея хмурится и усаживается обратно. – Мне показалось, я видела на улице Адаю. – Она пожимает плечами, даже не замечая, что Хелен, вся белая, прижимается к Арнелу. – Странно, до чего сегодня тихо.
– Она была здесь, – отзывается Хелен. На стенах горят зеленые лампы. – Она была здесь, а потом ушла.
– Хелен, – тихим, робким голосом произносит Арнел, – сестренка. Может быть, сядешь? Побудешь со мной немного? Мне ничего от тебя не нужно. Просто посиди здесь со мной.
– Садись уже, ради бога, – говорит Тея. Она всегда оживляется и становится нетерпеливой, когда другие проявляют слабость. – Ты что, птиц испугалась? Просто окно слишком хорошо помыли, вот они и подумали, что здесь можно пролететь насквозь.
Официанты осторожно ощупывают треснувшее стекло, задергивают шторы. Мягкий зеленый свет становится еще мягче, еще зеленее. Приносят свечи в зеленых стеклянных плошках и ставят на столик.
Ноги Хелен дрожат. Сердце бьется так же сильно, как у Мельмот. Арнел кладет ладонь на соседний стул и смотрит на нее застенчивым и умоляющим взглядом. Она садится.
– Мне почти нечего тебе рассказать, – говорит она.
– Вот так. – Тея смотрит на них обоих с невозмутимым и довольным видом, словно тот немыслимый, поразительный факт, что они сидят рядом – в одном помещении, за одним столом, – исключительно ее заслуга. – Отлично. А теперь, Арнел, вы извините меня, если я произнесу тост? Мы пришли сюда, чтобы почтить память умершей подруги. Это была мерзкая старая карга, но нам ее не хватает.
– Это точно! – Хелен смеется, и печальное вытянутое лицо Арнела тоже озаряется улыбкой. Глядя, как Тея, держа бутылку чешского игристого обеими руками, разливает вино по бокалам, Хелен признается: – Я ее всегда терпеть не могла. Но даже не помню почему.
– Извините, мэм, а от чего она умерла?
– От жизни, как и все мы, думаю, в конце концов умрем.
Золотистый венец волос придает Тее поистине королевский вид. Она поднимает бокал:
– Итак, тост. За Альбину Горакову, которая будет жить, пока Русалка продолжает петь.
– За Альбину Горакову, – подхватывает Хелен Франклин. Бокал холодит ей пальцы. Начинается музыка. Арнел рядом с ней протирает очки рукавом, и ей хорошо знакома эта его привычка. Он смущенно поднимает на нее глаза и отводит взгляд. Она снова повторяет: – За Альбину Горакову.
В свете ламп зеленые шторы и зеленые стены приобретают травянистый, теплый оттенок, зал похож на рощу в летние сумерки, и Хелен закрывает глаза. Она идет по дорожке, протоптанной в темном лесу. Деревья растут так густо и так высоко, что сюда не проникает свет. Дорожка сужается и поворачивает, и вот среди стволов перед ней вырастает домик, и что-то светится в темноте. Это свеча на подоконнике. Она горит уже так долго, что на обуглившемся черном фитильке дрожит совсем маленький огонек – но он все еще горит, все еще светит. Он освещает Давида Эллерби, который держит Алису Бенет за руку, препровождая ее душу к Богу, и угрюмого Йозефа Хоффмана, который совершает единственный достойный поступок в своей жизни. Он освещает и Арнела Суареса, который лежит на узких нарах, не позволяя себе впадать в отчаяние, освещает Гранта Хачикяна, который склонился над письмом в надежде, что его имя не сотрется из памяти, освещает Розу, которая ждет прихода своей подруги и сжимает в руке розовый квадратик ткани.
Хелен открывает глаза. Тея участливо повернулась к Арнелу: теперь из всех собравшихся за этим столиком она уже не самая несчастная. «Привыкнуть к снегу оказалось не так тяжело, как я думал», – говорит он, и на зеленом стеклянном блюдечке горит свеча. Хелен молча, со слезами на глазах, поднимает бокал, потом еще и еще раз. За Алису Бенет с крестом ожога на запястье, за Фредди Байер и ее брата, танцевавших в белых туфлях с пряжками. За лежавшую в постели Розу, которую кислота сжигала изнутри. За Карела Пражана, покинувшего их, за сэра Давида Эллерби, за Йозефа Хоффмана, и даже за Безымянного, и даже за Хассана – ведь те, кому многое прощено, обретают способность многое прощать.
Бутылка пуста. Хелен отставляет в сторону бокал. Кто-то открывает дверь, и обнаруживается, что мороз смягчился: дующий с реки ветер уже не точит лезвия о края крыш, только вздувает парусами навесы над прилавками и открытыми террасами кафе.
Хелен встает:
– Пойдемте?
Тея допивает вино и кладет деньги на стол, Арнел закрывает тетрадь и запихивает ее в карман пуховика.
На улицах полно народу, и никто не обращает на Хелен внимания: у облепивших карнизы галок свои заботы, а мастер Ян Гус, почувствовав, что стало теплее, отряхивает плащ. Арнел спотыкается о булыжники мостовой, Тея медленно ковыляет на костылях.
– Идем, – говорит Хелен и подает им обоим руки. Прогулочный катер уплывает вниз по течению в посверкивающую тень под мостом. На палубе играет музыка, и ветер разносит ее по переулку, как аромат. – Идем.