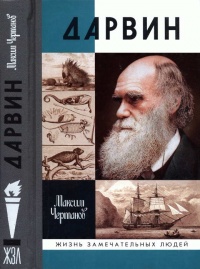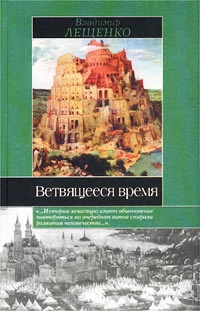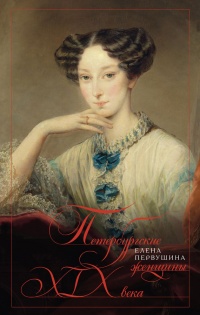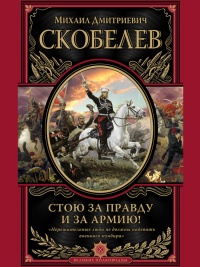Книга Сон Бодлера - Роберто Калассо
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Но сестре Изабель он сообщил правду: «Я умру там, куда меня забросит судьба. Надеюсь, что смогу вернуться туда, где я был, там у меня есть друзья, с которыми я связан добрый десяток лет, они пожалеют меня, я найду у них работу, буду жить, худо-бедно сводя концы с концами. Я буду жить там всегда, ибо во Франции у меня, кроме вас, нет ни друзей, ни знакомых — никого». В ответном письме Изабель рассказывала о своем знакомом, который передвигается очень легко, хотя и одноногий. «Говорят, на деревянной ноге он лихо отплясывает на сельских праздниках».
История о праведной жизни Рембо основана на письме его сестры от 28 октября 1891 года. Изабель пишет матери, что Рембо согласился поговорить со священником. «Тот, кто умирает у меня на глазах, вовсе не злосчастный распутник, нет, это святой, праведник, мученик, избранник!» Из этих семян вырастет фальсифицированная литературная агиография. Увенчавший голову поэта нимб скрыл существенную деталь в отчете сестры. После визита священника глубоко растроганная Изабель подходит к умирающему брату, и тот спрашивает у нее, верует ли она в Бога. «Он сказал мне с такой горечью: „Многие говорят, что веруют, но лишь для того, чтобы их читали. Они спекулируют на вере!“ Немного поколебавшись, я ответила: „Нет, они бы заработали больше, если б сыпали проклятьями“». Коли на то пошло, этот случай доказывает, что Рембо до последнего дня думал не просто о литературе, но о литературной жизни. А вдобавок то, что Изабель при всем своем ханжеском благочестии предвосхитила развитие всех авангардистских течений двадцатого века. Это был единственный миг, когда сестра сумела достойно ответить на разящий сарказм брата и оказалась на его высоте.
Все, что можно было вообразить себе и приобрести за наличные деньги, становилось, по обычаю того времени, экспонатом Всемирной выставки. Она представляла собой непрерывное обновление коллективного сознания, список элементов которого постоянно пополнялся. Именно поэтому Хрустальный дворец так пугал Достоевского. Под его прозрачными сводами, словно в теплице, происходило неконтролируемое цветение симулякров. Рембо и тут решил пойти наперекор веянию эпохи. Стать не посетителем, а экспонатом выставки — вот на что он замахнулся. Известить о своем желании он решил единственным доступным ему способом — в очередном письме родным. Эти письма были, по сути, его монологами, что, впрочем, не мешало ему изъясняться деловым тоном опытного коммерсанта: «Жаль, не смогу пройтись в этом году по Всемирной выставке, ибо мои доходы совершенно не могут мне этого позволить, и потом, если я уеду, мое предприятие попросту пропадет. Так что отложим эту затею для следующего раза: возможно, тогда я смогу экспонировать продукты из этой страны, а то и самого себя, поскольку тот, кто провел в подобных местах немало времени, приобретает, по моему убеждению, весьма причудливый вид». Покинув свой пьяный корабль, Рембо сумел стать одним из тех дикарей, что сопровождали его на берегу. Счастливая судьба его произведений, ушедших далеко за пределы страны поэтов, связана еще и с тем, что Рембо удалось осуществить свой замысел: экспонировать себя как некую этнографическую редкость, пойманную в джунглях.
Сент-Бёв глядел на парижскую литературную жизнь свысока, словно властный, скупой на похвалу дядюшка. Бодлер и другие так и звали его «дядюшка Бёв». Относились к нему с почтением, ожидая благословения, которое для многих было жизненно необходимо. Давалось оно, впрочем, редко, в особенности редко — талантливым писателям. Стоило ему заподозрить у кого-либо из современников исключительный дар, Сент-Бёв злился и отделывался обтекаемыми фразами. Это коснулось Стендаля, Бальзака, Бодлера, Флобера. Сент-Бёв всячески старался принизить их достоинства. Кого-то едва удостоил вниманием (суровее всего обошелся с Бодлером), а некоторых, скажем Нерваля, и вовсе не замечал. В то же время он был крайне снисходителен к весьма скромным дарованиям. Но как ни странно, проходные, формальные отзывы Сент-Бёва отличаются проницательностью и позволяют лучше понять авторов, чем дифирамбы их верных поклонников. К тому же уклончивые отзывы Сент-Бёва укрепляли читателя лишь в желании уклониться от чтения его собственных произведений; посмертное злопыхательское возмездие сделало его «Историю Пор-Рояля» одним из наименее читаемых трудов французской литературы.
Надо сказать, что Сент-Бёв изливал яд не только на молодежь и сверстников. Мэтрам, вроде Шатобриана, которых он якобы почитал, тоже от него доставалось, и не всегда в завуалированном виде. Курс лекций, легший в основу книги «Шатобриан и его литературная группа в период Империи», изобилует уничижительными «кстати», как будто высказанными в уголку, на ушко завсегдатаем салона мадам Рекамье, который охотно дает повод заподозрить его в причастности ко всем тайным уловкам этого дома, отчасти им же выдуманным, к вящему удовольствию Властителя Дум и его дамы.
Бодлер вновь пишет Сент-Бёву, осмелившись просить о рецензии. Как и прежде, тщетно. Постскриптум этого письма гласит: «Несколько дней тому назад, но на сей раз из одной лишь потребности повидать Вас, подобно Антею, тянущемуся к Земле, я отправился на улицу Монпарнас. По пути я проходил мимо лавки, где торговали пряными хлебцами, и мной овладела навязчивая мысль, что Вы любите пряные хлебцы». Далее следует подробное объяснение — как и с чем их есть («на десерт с вином… а… ежели сумеете найти, английский хлебец… можно намазывать маслом или конфитюром»). И в заключение: «Надеюсь, Вы не приняли кусок этого хлебца, украшенный ангеликой, за шутку шалопая и просто съели его… Всецело Ваш. Любите же меня. Я переживаю великий кризис»[165].
Чувством, которое питал к Бодлеру Сент-Бёв, было прежде всего опасение. Видный критик, который брался каждый понедельник обходительно и безмятежно — хотя и не без дежурной ложки дегтя — объяснять смысл происходящего в литературе и в обществе, не мог не понимать, что Бодлер зашел слишком далеко, переступил грань цивилизации и обосновался где-то в степи или в лесной чаще.
Втайне Сент-Бёв твердо решил взять себе за правило никогда не упоминать не только о Бодлере, но и о его зловещем alter ego Эдгаре По, несмотря на рекомендации главного редактора. Для критика-судьи, каковым Сент-Бёв являлся в большей степени, чем его последователи, решение не писать о современнике было жестким и действенным политическим маневром. Но иной раз, в силу непредвиденных обстоятельств, критик был вынужден высказаться и в нескольких строчках выразить то, о чем не желал говорить более подробно.
Сент-Бёву не раз удавалось увернуться от рецензии на Бодлера. А когда он наконец решился, то начал издалека и вместо привычного рассказа об отдельном авторе в понедельник 20 января 1862 года напечатал статью под заголовком «О будущих выборах в Академию» — вполне актуальная и весьма деликатная тема. Подобное случалось нечасто, отчего многочисленные дамы и высокие чины, которых Сент-Бёв воображал смакующими каждый понедельник его пассажи, в тот день, заглянув в «Конститюсьонель», должны были содрогнуться. Свои доводы автор излагал по обыкновению гладко и прозрачно. Но восприимчивый слух наверняка уловит многослойность этого текста, хотя и предпочел бы этого не заметить. И Сент-Бёв охотно пойдет навстречу желанию не вникать в суть, повинуясь выработанной «свободе в рамках приличий», решительно сглаживая все острые углы. И все же предмет разговора был крайне рискованный. Дело было не столько в предложении новой процедуры выбора кандидатов в Академию, сколько в безапелляционном суждении о том, чем Академия являлась по своей сути. А это, в свою очередь, являлось со времен Ришелье оценкой состояния здоровья Республики словесности. Мастер недомолвок, Сент-Бёв умел при случае нанести неожиданный проникающий укол. Так, с милой иронией отметив, что академики предаются «совершеннейшей праздности» и избавлены от каких бы то ни было повинностей, поскольку «общаются напрямую с монархом», Сент-Бёв дерзнул написать: «Академия, в лице тех или иных своих членов, одержима огромным страхом». Уберем заглушку вводных слов. Что останется? Академия одержима огромным страхом. Кто ей угрожает? Быть может, бесцеремонная, гнетущая политика? Отнюдь; есть нечто более тревожное: «страх перед литературной Богемой». В этом месте осмотрительный Сент-Бёв понимает, что сказал нечто из ряда вон выходящее, — и тотчас спешит поставить ограничители. Но, как известно, попытка смягчить удар в конечном счете нередко приводит к обратным последствиям. Так и здесь: «Едва ли стоит преувеличивать ее масштабы, следует знать, где ее конец и где начало [Богема на миг укладывается в географические границы, учитывая истоки названия]. Дискуссия о персонах, попавших под подозрение, была бы весьма полезна [Кого подозревают? В чем?]. Дабы не настораживать публику против Богемы, не следует воздерживаться от современной живой литературы». Подобным предостережением критик недвусмысленно указывает, откуда исходит угроза: «от современной живой литературы». Но кого конкретно он имеет в виду? Неужто Сорок Бессмертных, надежно защищенных положением в обществе и нередко знатным происхождением, могли испытывать страх перед литературой сомнительного толка? Сент-Бёв остерегается впрямую отвечать на вопросы, возникшие по его же воле, и, словно испугавшись содеянного, резко обрывает свои рассуждения под тем предлогом, что публика («с которой необходимо так или иначе считаться») пока не в состоянии «навязывать тот или иной выбор и совершать насилие над духом, консервативным по своей природе». Но выправить положение не удается: любая попытка оправдать или смягчить сказанное только ухудшает его. Остается один выход — рубить по живому. И тогда Сент-Бёв переходит к рассмотрению претендентов на место Скриба. В трех строках списка перечислены имена, ныне утратившие актуальность, а завершает его «г-н Бодлер». На другое вакантное место, принадлежавшее Лакордеру, он прочит лишь одного кандидата — герцога де Брольи (Сент-Бёв поясняет далее причину столь гордого одиночества: герцогу довелось «совершить немалое усилие, чтобы родиться», следовательно, все прочие усилия были бы для него излишни). Портреты кандидатов кратки и несут на себе печать убийственного добродушия. Критик Кювилье-Флёри снискал дифирамбы, которые, едва выйдя за пределы анкетных данных, звучат издевательски: «Обладатель многих достоинств, образованный, добросовестный, старательный». Чуть ниже: «Порой он находчив, но это дается ему в поте лица. Его, безусловно, можно уважать, не получая от этого никакого удовольствия. И ни к чему подстрекать его к промахам, ибо он совершает их во множестве без посторонней помощи». Никто не превзошел Сент-Бёва в искусстве стирать в порошок, осыпая похвалами.