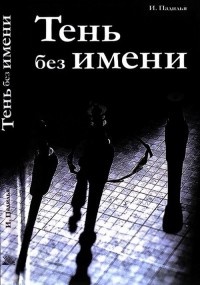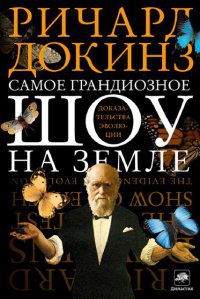Книга Неутолимая любознательность - Ричард Докинз
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Ныне мне трудно понять, как нам удавалось нести груз литературного труда в докомпьютерную эпоху. Едва ли не каждое предложение, которое я пишу, я затем переписываю, играя словами, меняя их порядок, вычеркивая и перерабатывая. Я перечитываю свои тексты как одержимый, подвергая их чему-то вроде дарвиновского отбора, который, как я полагаю и надеюсь, улучшает их с каждым разом. Даже набирая новое предложение, я удаляю и меняю не меньше половины слов еще до того, как довожу его до конца. Я всегда так делал. Но если компьютер подходит для такого стиля работы как нельзя лучше и сам текст после каждого редактирования остается чистым и красивым, при использовании пишущей машинки из него получалась ужасная мешанина. Ножницы и скотч шли в ход не реже, чем сама машинка. Разрастающийся машинописный текст моей книги был испещрен зачеркиваниями в виде “xxxxxxx”, рукописными вставками, кружками и стрелочками, переносящими фрагменты в другое место, и полосками бумаги, неизящно подклеенными на полях и внизу страниц. В наши дни можно подумать, будто одно из необходимых условий сочинительства состоит в том, чтобы у автора была возможность легко читать свой собственный текст. Пока мы работали на бумаге, это казалось невозможным. Но самое загадочное, что с тех пор, как появились компьютеры и текстовые процессоры, литературный стиль в целом как будто нисколько не улучшился. Как же так?
“Эгоистичный ген” был дважды начисто перепечатан на машинке руками Пэт Серл, заботливой секретарши, работавшей у нас в группе исследований поведения животных. Оба чистовых варианта направлялись Майклу Роджерсу и возвращались от него с полезными рукописными замечаниями. В частности, он вычеркнул некоторые напыщенные фрагменты, в которых мне по молодости и от избытка энтузиазма совершенно не удалось соблюсти меру. Питер Медавар, сравнивая ученого с органистом, писал, что “пальцы представителя естественных наук, в отличие от пальцев историка, никогда не должны соскальзывать в сторону восьмифутового регистра”. Заключение второй главы “Эгоистичного гена” осталось одним из самых витиеватых пассажей в научно-популярной литературе, и мне стыдно вспоминать (к счастью, не сохранившийся) абзац, который следовал за ним. Вот тот умеренно напыщенный фрагмент, который устоял против редакторского карандаша Майкла, прошедшегося по крайностям моего текста. Вторая глава посвящена возникновению жизни и самозарождению в первичном бульоне “репликаторов”, которые затем переселились в мир “машин выживания” – живых организмов.
Должен ли был иметься какой-то предел постепенному совершенствованию способов и материальных средств, использовавшихся репликаторами для продолжения собственного существования на свете? Времени для совершенствования, очевидно, было предостаточно. А какие фантастические механизмы самосохранения принесут грядущие тысячелетия? Какова судьба древних репликаторов теперь, спустя четыре миллиарда лет? Они не вымерли, ибо они – непревзойденные мастера в искусстве выживания. Но не надо искать их в океане, они давно перестали свободно и непринужденно парить в его водах. Теперь они собраны в огромные колонии и обитают в полной безопасности в гигантских неуклюжих роботах, отгороженные от внешнего мира, общаясь с ним извилистыми непрямыми путями и воздействуя на него с помощью дистанционного управления. Они присутствуют в вас и во мне. Они создали нас, наши души и тела, и единственный смысл нашего существования – их сохранение. Они прошли длинный путь, эти репликаторы. Теперь они существуют под названием генов, а мы служим для них машинами выживания.
Этот абзац кратко описывает главную метафору, которая легла в основу всей книги, а кроме того, передает ее научно-фантастический дух. Я даже начал свое предисловие со слов о научной фантастике:
Эту книгу следует читать почти так, как если бы это была научная фантастика. Она задумана с целью поразить воображение. Но это не научная фантастика, это наука. Мое отношение к правде точно выражает избитая фраза “превосходит самую смелую фантазию”. Мы всего лишь машины для выживания, самоходные транспортные средства, слепо запрограммированные на сохранение эгоистичных молекул, известных под названием генов. Это истина, которая все еще продолжает изумлять меня. Несмотря на то что она известна мне уже не один год, я никак не могу к ней привыкнуть. Хочется надеяться, что мне хотя бы удастся привести в изумление других.
Похожим настроением проникнуто и начало первой главы:
Разумная жизнь на той или иной планете достигает зрелости, когда ее носители впервые постигают смысл собственного существования. Если высшие существа из космоса когда-либо посетят Землю, первым вопросом, которым они зададутся с целью установить уровень нашей цивилизации, будет: “Удалось ли им уже открыть эволюцию?” Живые организмы существовали на Земле, не зная для чего, более трех миллиардов лет, прежде чем истина осенила наконец одного из них. Это был Чарльз Дарвин.
Нико Тинбергену, когда моя книга вышла и он прочитал ее, очень не понравились эти строки. Ему была противна сама мысль о человечестве как о разумном виде – так тяжело ему было осознавать, какое чудовищное воздействие мы оказали и продолжаем оказывать на окружающий мир. Но я же писал не об этом.
Мне следует кое-что сказать и о последней главе (“Мемы – новые репликаторы”). Учитывая, что во всех остальных главах основная роль отводилась генам, этим ведущим актерам театра эволюции, важно было, чтобы у читателя не создалось ощущения, будто репликатор непременно должен состоять из ДНК. Продолжая научно-фантастическую тему, которой открывалась моя книга, я обратил внимание на то, что на других планетах жизнь может эволюционировать за счет совсем иной системы самовоспроизведения, но эта система, какой бы она ни была, должна обладать определенным рядом свойств, таких как высокая точность копирования.
Если бы в 1975 году уже были изобретены компьютерные вирусы, я мог бы привести в качестве примера именно их. Но их еще не было, и в поисках аналога я обратил внимание на такой новый первичный бульон, как человеческая культура:
Но надо ли нам отправляться в далекие миры в поисках репликаторов иного типа и, следовательно, иных типов эволюции? Мне думается, что репликатор нового типа недавно возник именно на нашей планете. Пока он находится в детском возрасте, еще неуклюже барахтается в своем первичном бульоне, но эволюционирует с такой скоростью, что оставляет старый добрый ген далеко позади.
Новый бульон – это бульон человеческой культуры. Нам необходимо имя для нового репликатора, существительное, которое отражало бы идею о единице передачи культурного наследия, или о единице имитации. От подходящего греческого корня получается слово “мимема”, но мне хочется, чтобы слово было односложным, как и “ген”. Я надеюсь, что мои получившие классическое образование друзья простят мне, если я сокращу слово “мимема” до “мем”. Можно также связать его с “мемориалом”, “меморандумом” или с французским словом même [121]. Его следует произносить в рифму со словом “крем”.
Примерами мемов служат мелодии, идеи, модные словечки и выражения, способы варки похлебки или сооружения арок. Точно так же, как гены распространяются в генофонде, переходя из одного тела в другое с помощью сперматозоидов или яйцеклеток, мемы распространяются в том же смысле, переходя из одного мозга в другой с помощью процесса, который в широком смысле можно назвать имитацией.