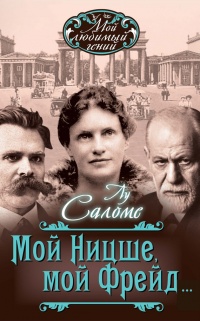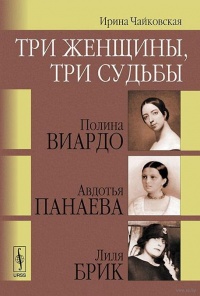Книга Три фурии времен минувших. Хроники страсти и бунта. Лу Андреас-Саломе, Нина Петровская, Лиля Брик - Игорь Талалаевский
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— «Дорогой мой, я этого места не стану застегивать вам».
И Бальмонт — не перечил: заснул; но едва мы на цыпочках вышли, он заскрежетал так, что Нина Ивановна уши заткнула: такой дикой мукой звучал этот скрежет; и мы за стеною курили, глаза опустив; дверь раскрылась: Бальмонт — застегнувшийся, в пледе, которым накрыли его, молниеносно пришедший в сознание, робкий, с пленительно-грустной, с пленительно-детской улыбкой (пьянел и трезвел — во мгновение ока); он начал с собою самим, но для нас говорить: что-то нежное, великолепное и беспредметно-туманное; мы, обступив, его слушали; то, что сказал, было лучше всего им написанного, но слова утекали из памяти, точно вода сквозь ладони.
От дня, проведенного с ним, мне остался Бальмонт ускользнувший и незаписуемый; а записуемая загогулина (вплоть до штанов) жить осталась как нечто трагическое: не каламбур это вовсе.
Мне первая встреча с Бальмонтом — вторая…
Раз забежал я к нему; очень усталый, в подушках лежал он: «Говорите, сидите: что делали вы? О чем думали?» — квакало еле; я что-то свое, философское, начал; раздался отчаянный храп; я хотел удалиться; Бальмонт, точно встрепанный, переконфуженно квакал: «Я — слушаю вас: продолжайте!» Я рот — раскрыл; и — снова всхрап; я — на цыпочках, к двери. Он вскочил, посмотрел укоризненным, очень насупленным взглядом: «Я этого вам — не прошу!» Мог быть мстительным; Брюсов рассказывал:
— «Раз он таскал глухой ночью меня; он был пьян; я боялся: его пришибут, переедут; хотел от меня он отделаться: стал оскорблять; зная эту уловку его, — я молчал; не поверите, — он проявил изумительный дар в оскорблении, так что к исходу второго, наверное, часа я… — Брюсов потупился, — я развернулся и… и… оскорбил его действием; он перевернулся и бросил меня».
— «Ну, и…?»
— «На другой день — подходит ко мне и протягивает незлобиво мне руку!» И Брюсов вздохнул:
— «Добр!»…
Нина. Но, а как же обойтись без Андрея Белого? Его маленькую книжку, четвертую «Драматическую симфонию» читали в Москве нарасхват. Критики из «Русского Слова» улюлюкали. Публика ругала. Вот так произведение, где Вл. Соловьев путешествует по крышам в крылатке, где преподносятся такие перлы:
Нас же поразила и ошеломила неслыханная новизна формы, образы и язык красок, в которые он их воплощал, обессмысливание всех эмпирических обликов во имя совершенно нового постижения жизни, разрыв со всеми унаследованными литературными традициями и, наконец, просто черты гениальности.
Кречетову А. Белый понадобился для эффекта, как уникум, как истинный раритет.
Проходили дни, а Белый все что-то не появлялся.
«Расскажите, какой он», — просила я, но рассказать никто не сумел. Увидела я его случайно.
В вестибюле Исторического музея, после чьей-то лекции, в стихии летящих с вешалок, ныряющих, плавающих шуб, словно на гребне волны, беспомощно носилась странная и прекрасная голова, голубовато-прозрачное лицо, нимб золотых рассыпавшихся волос вокруг непомерно высокого лба.
«Смотрите! Смотрите же, — толкнули меня в бок, — это Андрей Белый!»
Так я увидела в первый раз А. Белого, сражающегося с ужасами эмпирического мира. А он просто искал свою шубу… с вдохновенно-безумным лицом пророка.
Потом я отметила, что выражение его лица редко соответствовало совершаемому акту. Он пил из крохотной рюмочки шартрез с таким удивлением в синих (лучисто-огневых) глазах, точно хозяин предложил ему не простой ликер, а расплавленный закат; ходил по Арбату, направляясь в гости или на заседание в дневной толпе, точно по осиянной звездами пустыне или по дантовскому лесу, кишащему видимыми и невидимыми опасностями, то натыкаясь на людей среди бела дня, то странно озираясь, пряча голову в плечи, прижимаясь к стенам.
Таким он был тогда, когда я увидала его, высоко вознесенного потоком шуб, звериных шкур, таким полюбили его все «грифята» без исключения.
Андрей Белый дал для Альманаха стихи и для издательства третью симфонию «Возврат»…
Белый. Соколов, «Гриф», с которым в тот же 1903 год я в «Кружке» познакомился: он сразу оттяпал стихи у меня и отрывки из четвертой «Симфонии»: для своего альманаха; он с первых же шагов; ужаснул, опечатку со смаком оставивши в корректуре; напечатал-таки «закат — пенножирен».
— «Голубчик, Сергей Алексеевич, что вы наделали?»
— «А что такое?»
— «Да „пирен“ — не «жирен».
— «А я думал, что это вы новое слово создали».
В отрывке том самом мне пальцем на фразу показывал: «И тухло солнце».
— «В чем дело?»
— «Перемените: скажут — «протухло»; исправьте скорей».
Он стал появляться у нас в квартире с корректурой; и приглашал на свои вечеринки.
Красавец мужчина, похожий на сокола, «жгучий» брюнет, перекручивал «жгучий» он усик; как вороново крыло — цвет волос; глаза — «черные очи»; сюртук — черный, с лоском; манжеты такие, что-о! Он пенснэ дьяволически скидывал с правильно-хищного носа: с поморщем брезгливых бровей; бас — дьяконский, бархатный: черт побери, — адвокат! Его слово — бабац: прямо в цель! Окна вдребезги! Слишком уж в цель: скажут — грубо; так лозунгами из Оскара Уайльда, прочитанного в переводе неверном… отчетливо он запузыривал так, что и Уайльд — не «уайльдил», а «соколовил».
Мочи не было слушать!
Враждебный к религиям, столоверченьем не прочь был заняться, как и дамским флиртом; однажды, влетев на трибуну, чтобы защитить Мережковского, он, пнув героически пяткой прямо в доски помоста и пнув большим пальцем себе за спину, в ту сторону, где, пришибленный его комплиментом, сидел Мережковский, бледнеющий от бестактности, дернул он, точно «Дубинушку»: по адресу Мережковского и Зинаиды Гиппиус:
— «Они люди святые!»
Бац — в пол ногой: и — бабац: себе за спину пальцем большим:
— «Эти люди овеяны высями снежно-серебряного христианства!» Д. С. Мережковский — так даже лиловым стал; «Гриф», озираясь надменно, с трибуны слетел: победителем!
Точно такие ж обложки он «ляпал» на книги: и марку придумал издательства своего: жирнейшую «грифину», думая, что «Скорпиона» за пояс заткнул он; «Скорпион» — насекомое малое; «Гриф» — птица крупная.
В крупном масштабе он действовал: неделикатность его, точно столб Геркулеса, торчала: в годах…
Стих его был скрежетом аллитераций: точно арба неподмазанная. И сюжеты же! Кровь-де его от страстей так темна, так темна, что уже почернела она; перепрыгивал в «дерзостях» через Бальмонта и Брюсова, а получалась какая-то вялая «преснь». Брюсов брови сдвигает, бывало; Бальмонт же покровительственно оправдывает преснятину эту; он Соколову мирволил, очаровываясь почетом, оказанным «Грифом» ему: «Гриф» был Бальмонтов «вассал»: в своем «Грифе»; ну, а в Благородном собранья ревел он потом радикальнейшими убеждениями адвоката московского… Брюсов выглядел аполитично; ну, а Соколов, говоря о царизме, бывало: зубами скрежещет, а черные очи вращает — на дам.