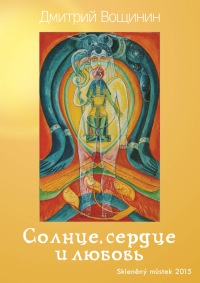Книга Только ждать и смотреть - Елена Бочоришвили
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Но оттого, что люди работали вместе, им было весело. Они танцевали и любили. Я хочу объяснить, почему мы все же умудрялись быть счастливыми, живя в сером Советском Союзе. Мы были едины, мы были как один. Нас всех лишили прошлого и отвлекли от настоящего мечтой о будущем. Мы были равны в том, что кто-то решал за нас, вместо нас – вклеить нас в книгу или вырвать. Существовала абсолютная уверенность в том, что будущее не зависит от тебя, от тебя лично, хоть оно и твое.
В той пьесе, в том фильме, в котором мы жили, было единство времени (будущее время) и единство места. Мы все знали, что умрем там, где живем. Моя родина – Советский Союз! Как в тюрьме – лежишь ты в камере или ходишь, ты все равно сидишь! Это чувство единства и равенства перед своим будущим, чувство равно распределенной безысходности, безвыходности – объединяет. И радость жизни может достичь неописуемых высот. Как перед смертью, как в последний раз, как расставанье навсегда, как голая грудь во весь экран, одна на всех.
Вот оно, главное, чего мне не хватает в Канаде, где все есть. Мне не хватает чувства единства между людьми, чем бы оно ни объяснялось. Мне не хватает всеобщей неистовой радости жизни. Мне нужен соцреализм.
…Отец вошел в круглое здание цирка в самом цент ре города Тбилиси, на вершине горы Вере, как вошел в цветной фильм. Все было ярким, красочным – цветным! Эйзенштейн раскрашивал флаг в “Броненосце “Потемкин” вручную. Но там был красным только флаг. В цирке было красочным все – пестрые одежды акробатов, нос клоуна, красные попки обезьян. Он впервые увидел, как огромен слон. Дрессировщик хлопал кнутом по арене, как выстреливал холостой патрон. Лев боялся и подчинялся, а зрители на трибунах даже не вздрагивали. После войны. Потом дрессировщик открыл льву пасть и вложил в нее свою кудрявую голову – и вынул.
Если бы можно было жить как в цирке.
И вдруг на самом верху, почти под куполом, появилась откуда ни возьмись женщина необычайной красоты. Она висела в воздухе на невидимых глазу канатах и извивалась как змея. Она прикладывала ступни к лицу, она просовывала голову между ногами, она подбрасывала свое изящное тело, держась на одной руке. Она летала над головами людей в серых одеждах, над табачным дымом, как дивная птица с яркими перьями. Вспоминал ли мой отец цирк, когда говорил матери: “Змея ты, а не человек”?
Но самое главное было впереди. Барабанный бой. Женщина уселась на стул в самом центре арены и стала обмахиваться веером, как будто устала. Никто не знал, чего ждать. Объявили: “Тихо, товарищи! Сейчас Мзия будет говорить!”
И она заговорила – не открывая рта!
Больше, чем слон, чем львы с обезьянами, чем акробаты и наездники, чем глотатели шпаг – удивительней всего, что люди когда-либо видели в цирке, была эта маленькая женщина, которая говорила не открывая рта.
Моя мать, Мзия.
“Публика была поражена, – сказал мне отец, когда постарел, – а я был сражен!” Старость – это когда вспоминаешь себя счастливым и плачешь.
А потом на арену вынесли огромный ящик, а сверху поставили другой, поменьше, и еще, и еще, пирамидой. Бутафорские ящики уменьшались с каждой ступенькой, и на верхушке было место лишь для одного стула. На стуле сидела Мзия, обмахивалась веером и ждала. Объявили, что если кто желает убедиться, что Мзия действительно разговаривает животом, то он может подняться наверх и посмотреть своими глазами.
Каждый желал бы увидеть Мзию “своими глазами”, но никто не хотел подниматься наверх, под купол цирка.
Да, мой отец взбежал вверх по пирамиде и был сражен наповал.
– Когда мы встретимся? – спросил он, стоя на шатком бутафорском ящике.
– Никогда! – ответила Мзия, не открывая рта.
Потом ему надо было спуститься вниз, но он не смог. Он даже не мог понять, каким образом он очутился под куполом цирка, на самом верху. И он стоял и стоял, хотя уже три раза сыграли туш. И моя мать взяла стул, подняла его над головой своей маленькой ручкой, не способной удержать даже младенца, а другой ручкой открыла люк. Мой отец увидел внутреннюю лестницу, что шла вниз, к основанию пирамиды, и слез.
Моя мать почти никогда не демонстрировала нам своей способности чревовещать. Пожалуй, два или три раза, и это было восхитительно смешно. Голос был низкий, почти мужской. Он исходил как будто не изнутри нее, а извне. Рот ее не был наглухо сомкнут, а чуть приоткрыт, но губы не шевелились. Этот голос будил меня иногда ночью, когда мы все спали в одной комнате – я с сестрой валетом на детской кроватке, а рядом, впритык к нашей, на узкой кровати – мои родители. Мне тогда казалось, что они не помещаются на узкой кровати, что им тесно и от этого они ерзают и ерзают, пытаются найти удобную позу. Этот голос, пожалуй, одно из самых первых воспоминаний моего детства. Всегда ночью – неужели в то время никто не занимался сексом днем? – и всегда неожиданно, посреди сна. Я помню недовольство отца, его возмущение: “Ребенок должен спать ночью!” – помню, как мать успокаивала попеременно его и меня. Я плакал. Потом мать просовывала ко мне сквозь прутья свою маленькую душистую ручку, я обнимал ее обеими руками, прикладывал к своей щеке и засыпал. В детстве я обожал свою мать и ненавидел отца. Он отнимал у меня мать. Ведь, если бы не он, она спала бы со мной, в моей кроватке, между мной и сестрой!
Спасибо доктору Зигмунду за объяснения, сам бы я никогда не догадался!
Кстати, Фредерик, ты когда-нибудь заставал меня с мамой врасплох? Извини.
…После Игоети, после полуразрушенной церкви, дорога расширяется, и машины сразу набирают скорость. Как будто водители знают, что теперь счастье на их стороне, раз они выбросили на ветер монетки. Мы проезжали по этой дороге почти каждое воскресенье, много лет подряд, и я видел немало аварий. Лишь однажды, по телевизору, я увидел знакомый участок дороги совершенно пустым – это когда русские войска вошли в Гори и стали продвигаться к Тбилиси во время “пятидневной войны”. Я увидел танк, стоящий возле маленькой церкви, почти вросшей в землю. И деревья вокруг.
Я узнал все – и церковь, и дорогу, и деревья, и даже танк. Именно такой советский танк я видел каждый раз на парадах. И в нашем школьном учебнике по “гражданской обороне”. Воспоминания вдруг охватили меня, я сам стал не свой. Этот танк, стоящий в тени под зелеными деревьями, возле маленькой церкви, приносящей счастье.
Я вспомнил свое детское волнение, даже горе, когда я вдруг выяснил – из школьного учебника, – что советский танк уязвим. Вот его уязвимые места: ствол пушки, приборы стрельбы и наблюдения, ствол пулемета, борт корпуса, корма корпуса и ходовая часть. И у танка есть “мертвая зона”, он “слепнет”, если вооружение – ствол пушки и пулемета – склонить максимально. Самый обыкновенный человек – мужчина с авоськами – может вывести танк из строя, если встанет прямо под ствол.
Боже мой, как танк хрупок! Я нервничал – как же он будет нас защищать, когда начнется война? А война неминуема – мы живем в окружении врагов! Ведь я не представлял, что советский танк будет нападать на нас самих, безоружных, что он будет гоняться за детьми и бабками. А перед ним всякий раз будет возникать, как из дыма, человек с авоськами, рядовой гражданин.