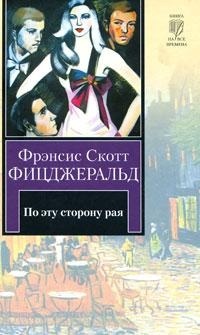Книга Прекрасные и обреченные - Фрэнсис Скотт Фицджеральд
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Ах, бедный старичок! — воскликнула, растрогавшись, Глория.
— Я бросил ему еще доллар и пошел дальше, хотя старикашка уговаривал остаться и рассказать, в чем дело.
— Бедный старичок, — горестно повторила Глория.
Дик с сонным видом уселся на кстати подвернувшийся ящик.
— Ну и что теперь? — осведомился он со стоическим смирением.
— Глория сильно расстроена, — пояснил Энтони, — и мы с ней отправимся в город следующим поездом.
Мори извлек из кармана расписание поездов.
— Зажги спичку.
В темноте вспыхнул слабый огонек, освещая четыре лица, таких нелепых и совсем не похожих на себя в безмолвии ночи.
— Так, давай посмотрим. Два, два тридцать… нет, это вечером. Ей-богу, вам не сесть на поезд до половины шестого.
Энтони замялся.
— Ну, — неуверенно пробормотал он, — мы решили остаться здесь и ждать поезда, а вы можете вернуться и лечь спать.
— И ты иди с ними, Энтони, — принялась упрашивать Глория. — Хочу, чтобы ты поспал, любимый. Ты сегодня весь день такой бледный, точно привидение.
— С чего ты взяла, маленькая дурочка?..
Дик зевнул:
— Прекрасно. Раз вы остаетесь, то и мы тоже.
Выйдя из-под навеса, он устремил взгляд в небеса.
— Довольно славная ночка, в конце концов. Звезды сияют и все такое прочее. И с каким тонким вкусом подобран их ассортимент.
— Давайте посмотрим. — Глория двинулась за Диком, и остальные последовали ее примеру. — Посидим здесь, — предложила она. — Мне так больше нравится.
Энтони с Диком превратили длинный ящик в подобие спинки, а потом отыскали достаточно сухую доску, чтобы Глория могла сесть. Энтони пристроился рядом, а Дик не без труда взгромоздился на бочку из-под яблок.
— Тана уснул в гамаке на веранде, — сообщил он. — Мы отнесли его на кухню и положили рядом с плитой, чтоб просох. Он насквозь промок.
— Ах, этот ужасный маленький японец! — вздохнула Глория.
— Как поживаете? — раздался сверху зычный замогильный голос.
Все подняли головы и с изумлением обнаружили, что Мори неведомым образом забрался на крышу навеса и сидит, свесив ноги через край, вырисовываясь на фоне звездного неба, как тень фантастической химеры.
— Должно быть, именно для таких случаев, — неторопливо начал он, и его слова, казалось, струились вниз с невероятной высоты, мягко утверждаясь на головах слушателей, — обитающие на этой земле праведники украшают железную дорогу рекламными щитами с написанными красными и желтыми буквами утверждениями, что «Иисус Христос есть Бог». И помещают их рядом с весьма уместными заявлениями типа «Виски „Гантерс“ — здорово».
Послышался тихий смех, и три головы внизу остались поднятыми вверх.
— Полагаю, следует поведать вам историю моего развития, — продолжал Мори, — под этими язвительно усмехающимися созвездиями.
— Давай! Просим!
— Думаете, действительно стоит?
Слушатели застыли в предвкушении, а рассказчик послал задумчивый зевок улыбающейся белой луне.
— Итак, во времена детства я предавался молитвам. Запоминал молитвы на случай будущих грехов. За один год скопил про запас тысячу девятьсот молитв. «Сон безмятежен и мирен мне даруй».
— Брось сигаретку, — пробормотал кто-то.
Небольшая пачка коснулась платформы одновременно с громогласной командой:
— Тихо! Я намереваюсь избавиться от бремени незабываемых наблюдений, хранимых для темноты, царящей на этой земле, и сияния, озаряющего эти небеса.
Внизу зажженная спичка переходила от сигареты к сигарете, а голос сверху продолжал:
— Я поднаторел в искусстве дурачить Господа. Молился после каждого прегрешения, пока в конце концов для меня перестало существовать различие между молитвой и проступком. Искренне верил, что если человек восклицает «О Господи!», когда на него падает несгораемый шкаф, это служит доказательством глубоко укоренившейся в его сердце веры. Потом я пошел в школу. В течение четырнадцати лет полсотни серьезных честных людей, показывая на кремниевое ружье, заявляли: «Вот стоящая вещь. А эти новые винтовки — всего лишь не очень умная поверхностная имитация». Они ругали книги, которые я читал, и мои мысли, называя их безнравственными; потом мода изменилась, и они ругали те же предметы и понятия, называя их «замысловатыми».
Для своих лет я оказался юношей весьма сообразительным и, отринув преподавателей, перекинулся на поэтов, вслушиваясь в лирический тенор Суинберна и драматический тенор Шелли, внимая изумительного диапазона баритону Шекспира, басу Теннисона, который порой срывался на фальцет, и басом-профундо Мильтона и Марло. Вникал в непринужденный говор Браунинга, пафосную декламацию Байрона и занудное гудение Вордсворта. Во всяком случае, мне это не повредило. Я узнал кое-что о красоте, вполне достаточно, чтобы понять: она не имеет ничего общего с истиной. Более того, обнаружил, что никакой великой литературной традиции не существует, а есть только традиция чреватой важными последствиями гибели любой литературной традиции.
Потом я повзрослел и уже не воспринимал очарование сладостных иллюзий. Мой разум огрубел, а глаза сделались нестерпимо зоркими. Жизнь бурлила подобно морю вокруг моего островка, и вдруг я обнаружил, что уже плыву.
Переходный период прошел незаметно — все это уже давно меня поджидало. С виду безобидная, но коварная западня для всякого. А что же я? Нет, я не делал попыток соблазнить жену дворника и не бегал нагишом по улицам, демонстрируя половую зрелость. Ведь не страсть правит миром, эта роль отведена одеждам, в которые она наряжается. Я заскучал, вот и все. Скука, которая является еще одним названием, а зачастую и маской для жизнелюбия, стала подсознательным мотивом всех моих действий. Красота осталась позади. Понимаете? Я повзрослел. — Мори ненадолго умолк. — Завершение учебы в школе и колледже. Далее следует часть вторая…
По трем огонькам сигарет можно было определить местонахождение слушателей. Глория полулежала на коленях у Энтони, а он так крепко сжал жену в объятиях, что ей были отчетливо слышны удары сердца. Ричард Кэрамел, примостившийся на бочке из-под яблок, время от времени пробовал пошевелиться, сопровождая свои действия тихим урчанием.
— Итак, я стал взрослым, окунулся в мир джаза и тут же испытал сильнейшее смятение. Жизнь нависла надо мной подобно забывшей о нравственности школьной учительнице, внося поправки в мое упорядоченное мышление. Но я, придерживаясь ложной веры в силу разума, продвигался вперед. Прочел Смита, который глумился над милосердием, настаивая, что именно осмеяние и есть наивысшая форма самовыражения. И вот уже Смит, подменив собой милосердие, заслоняет мне свет. И я прочел Джонса, который так ловко отверг индивидуализм. И нате вам! Джонс так и стоит у меня на пути. Я не думал сам, а являлся полем боя для мыслей множества других людей. Или, скорее, напоминал одну из тех пленительных, но немощных стран, по которым разгуливают, извлекая выгоду, великие державы.