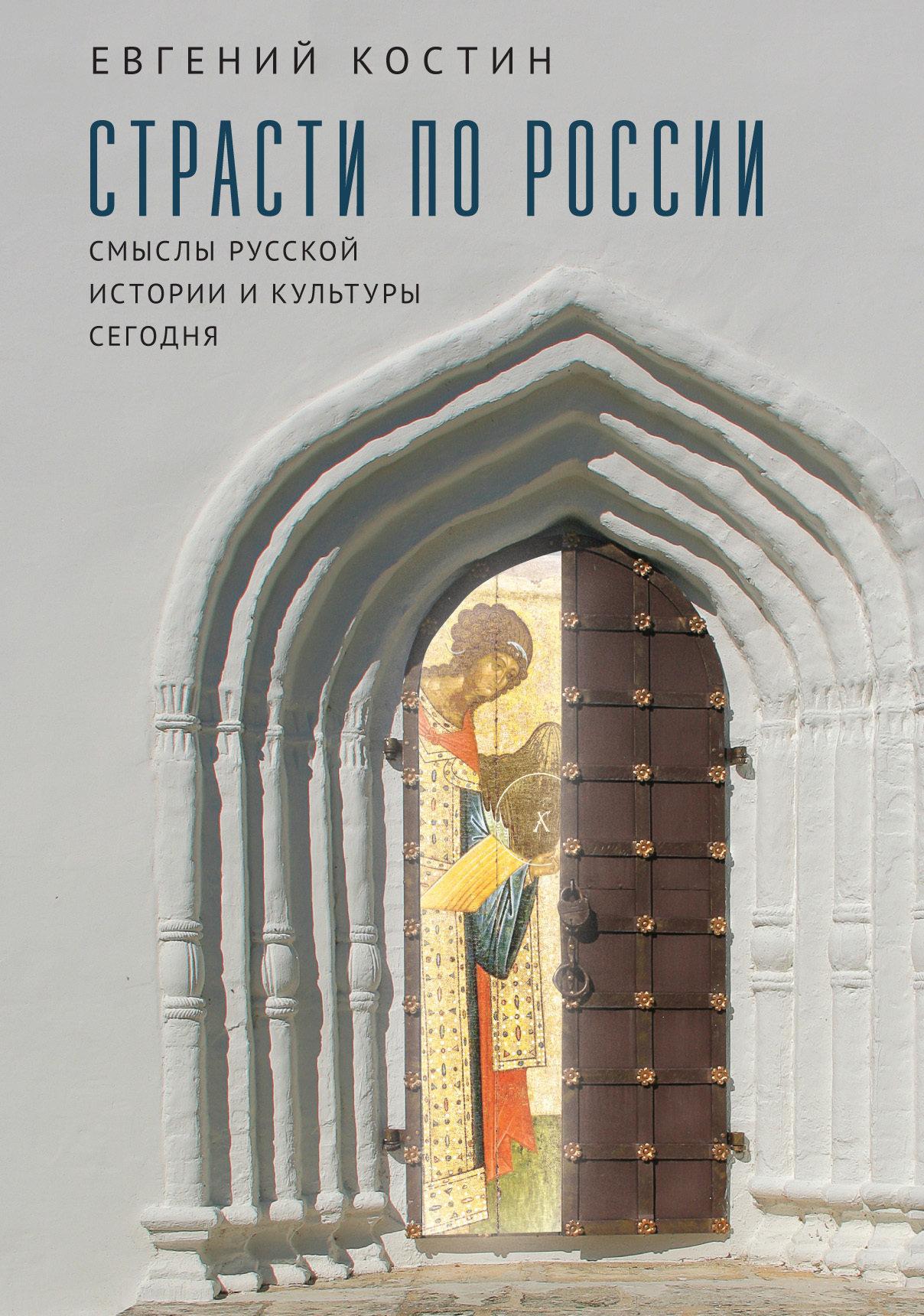Книга Искусство на повестке дня. Рождение русской культуры из духа газетных споров - Катя Дианина
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
То, что мы сегодня воспринимаем как русское народное искусство, выражающее национальный дух, является продуктом социальных теорий эпохи романтизма и творческих мастерских конца XIX века. Примечательно, что ни матрешка, ни балалайка, ни сказочная васнецовская Избушка на курьих ножках, собственно говоря, не принадлежали к традиционной крестьянской среде. Популярность русской старины не ограничивалась каким-то определенным сегментом общества: усилия художников и меценатов совпадали с запросами публики, а также с интересами, поддерживаемыми государством [Hilton 1995: 4, 216, 223]. По мнению Э. Хилтон,
Историки, социальные реформаторы и официальные власти, а также художники верили, что восстановление форм исторической и народной культуры может помочь возродить традиционные ценности, которым угрожают современные условия. <…> Это консервативное отношение также было одной из причин официального национализма Александра III в искусстве в конце XIX века [там же: 220].
Почему крестьянская культура привлекала столько внимания? В период «хождения в народ» в 1870-е годы крестьянство и деревенский образ жизни идеализировались народниками. Более того, как объясняет В. Салмонд:
Будущее народных ремесел имело особый отклик в России XIX века, в стране, где преимущественно крестьянское население особенно остро переживало муки модернизации, а чувство национальной идентичности было осложнено ее географическим положением между Европой и Азией и историческим экстремизмом петровских реформ. Являясь символом невежественного сопротивления западным идеям прогресса, народная культура была объектом презрения высшего класса в России с начала XVIII века; но открытие духовной и эстетической ценности крестьянской жизни начало проявляться уже в середине XIX века, в ответ на международный подъем патриотических настроений, а точнее говоря, на новое сочувствие к крестьянству в России, которое возникло после отмены крепостного права в 1861 году [Salmond 1997: 6].
В то же время, только когда народное искусство и ремесла оказались на грани исчезновения, в обществе начались серьезные усилия по их возрождению. До этого образованные русские смотрели на кустарные изделия с отвращением или безразличием [Salmond 1996: 15]. Ситуация изменилась, когда более или менее успешно начали работать около 35 кустарных мастерских, что совпало с изменением отношения к русским промыслам в Европе.
Растущий интерес за рубежом к тщательно разрекламированным и упакованным кустарным изделиям побудил образованных русских переосмыслить свое автоматическое неприятие товаров отечественного производства и заставлял гордиться тем, что le koustar russe теперь воспринимался как один из последних подлинных примитивов Европы [там же: 144].
Когда предметы повседневного крестьянского быта превратились в музейные сокровища, произошло, как предполагает Хилтон, своеобразное смешение категорий, в результате которого народное искусство стало отождествляться и смешиваться с собственно русским искусством, а также с допетровской традицией в целом [Hilton 1995: 227–229]. Эта восстановленная русская старина предлагала средство обеспечить преемственность с прошлым и представить разорванную национальную традицию как долгую и непрерывную. Более того, повседневная крестьянская жизнь эстетизировалась и ностальгически идеализировалась, часто чрезмерно. Жалкая картина крестьянского опыта, которую лишь недавно обнажили передвижники, беспощадно «лакировалась».
В последние десятилетия XIX века идея национального снова сменила наряд: если в реалистическом искусстве передвижников национальный элемент передавался прежде всего через содержание, то в эпоху народного возрождения на первый план вышли форма и орнамент. Если передвижники стремились как можно точнее отобразить жизнь, во всех ее грубых, физиологических подробностях, то неонациональная эстетика возрожденной русской старины определялась противоположным сценарием – жизнью, копирующей искусство. Со сцены, из книг и с полотен мотивы русской старины входили в русскую публичную сферу как крайне желанные, а зачастую и модные товары. Но крестьянские безделушки кустарного производства не были народным искусством в подлинном смысле: новая эстетика была не столько образом жизни, сколько экзотическим аксессуаром для городских богачей, идеальных потребителей подобного рода товаров. Не говоря уже о реальной проблеме, «что наследники всех этих музейных артефактов – крестьяне современной России – казались совершенно готовыми отказаться от своего наследия и не проявляли особого желания продолжать невыгодные, устаревшие пути своих предков» [Salmond 1997: 7].
Компоненты приукрашенности и сценические эффекты берендеевской изобретенной традиции трудно было не заметить. Смешанные категории искусства и быта также грозили свести искусство к бесконечным копиям, что и произошло со многими популярными сувенирами. В живописи художники в 1880-е годы также брали сюжеты из допетровской Руси и изображали натурщиков в тщательно продуманных исторических костюмах, как это видно в роскошном «Боярском свадебном пире в XVII веке» (1883) К. Е. Маковского, драматической «Боярыне Морозовой» (1887) В. И. Сурикова и лирической «Северной идиллии» (1886) К. А. Коровина. За счет костюмов, исторических отсылок и выразительного фона, состоящего из старинных изб, теремов, крепостей и родного пейзажа, достигалась атмосфера самобытной русскости [Hilton 1995: 217–218].
Народная культура стала мостом, соединившим в последние два десятилетия XIX века традицию и модерность – она также давала надежду на будущее. И. Я. Билибин реконструировал дух национального возрождения следующим образом:
Только совершенно недавно, точно Америку, открыли старую художественную Русь, вандальски искалеченную, покрытую пылью и плесенью. Но и под пылью она была прекрасна; так прекрасна, что вполне понятен первый минутный порыв открывавших ее: вернуть! вернуть! <…> И вот, художникам-националистам предстоит колоссально трудная работа: они, пользуясь богатым старым наследием, должны создать новое серьезное, логически вытекающее из того, что уцелело. <…> Будем ждать и, не теряя времени, собирать и собирать все, что еще осталось старого в избах, и изучать и изучать. Постараемся, чтобы ничто не ускользнуло от нашего внимания; и, может быть, под влиянием увлечения минувшей красотою и создастся, наконец, новый русский стиль, вполне индивидуальный и не мишурный[639].
Актуальность возрождения подчеркивала и Е. Д. Поленова:
Цель наша – подхватить еще живущее народное творчество и дать ему возможность развернуться. То же, что попадает в издание, – это большей частью умершее и забытое. Стало быть, нить порвана и ужасно трудно искусственно ее связать. <…> Вот почему мы ищем главным образом вдохновения и образцов, ходя по избам и приглядываясь к тому, что составляет предметы их обихода, стараясь, разумеется, отбрасывать иноземную новейшую прививку…[640]
Национальное возрождение в духе Берендеевки, культивируемое в Абрамцеве и экспонируемое на родине и за границей, стало долгожданным ответом на призывы современников спасти народное искусство. Но именно эти усилия творческой интеллигенции научить народ правильно понимать национальное искусство и создавать предметы для музея и рынка возбудили подозрение у некоторых арбитров вкуса, таких как Бенуа: «Какой это ужас, какая нелепость – народ, старающийся творить в народном духе!» Критик продолжает: «Самое кислое впечатление… производят разные отдельные попытки вернуться к народу. Все это, быть может, и почтенно, но в то же время и вздорно, отвлеченно, “музейно”, нелепо»[641]. Бенуа и другие современники оспаривали саму театральность берендеевской традиции, ее попытки казаться национальной. Позиционированное между сокровенным стремлением к самопознанию и сознательной критикой имитации и искусственности, русское национальное возрождение было предметом дискуссий. Кратковременный коммерческий успех кустарных изделий, созданных в Абрамцеве с 1885 по 1890 год, выдвинул русскую художественную промышленность и споры вокруг нее на передний план общественной жизни.
Абрамцево
История Абрамцева – от частной инициативы отдельного промышленника до феномена, в значительной степени сформировавшего наше представление о русской национальной традиции, – ключ к пониманию динамики развития культуры в России в конце