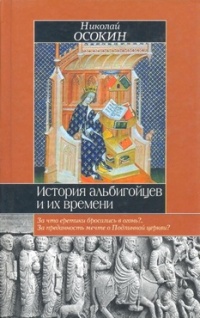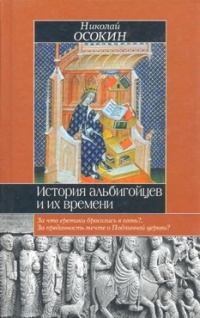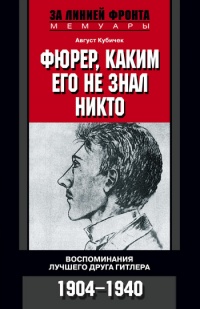Книга Восстание. Документальный роман - Николай В. Кононов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Видимо, следователь решил, что хватит, и спустя сутки, уже на ночь глядя, меня вновь потащили на второй этаж. Долгого разговора не вышло: он посчитал меня теперь готовым на все, а я так и не вышел из своей ясности, будто инъекция оказалась не временной, а помогла укорениться каким-то новым изменениям во мне. «Вы вспомнили? Расскажите про операции. Всего на территории партизанского района Могилев — Витебск — Лепель, где действовали соединения предателей, убиты тысячи наших соотечественников, сожжены сотни домов. Вы сделали это. На ваших руках кровь, и только чистосердечное признание может смягчить суд. Нам нужны детали». Стеклянный мир переливался, и я следил за сменой оттенков цвета у предметов, ранее не интересовавших: желтые, в цветок, увитый шнуром, обои, шероховатая зелень его выстиранной гимнастерки. «Я никого не убивал». Следователь смотрел на меня с минуту уже не сфинксом, а каким-то акакием акакиевичем. Наконец разглядев нечто ему понятное и сообразив, что к чему, он выпятил нижнюю губу и сожалеюще приподнял брови. «Что ж, Сергей Дмитриевич, жаль, хотел перед командировкой от вас получить подарок, но не дождался. Увидимся после».
Вскоре я сидел перед другим дознавателем. Он был одет в белую рубаху и пиджак и повадками напоминал фабричного. Взяв протокол первого допроса, он начал безучастным голосом расспрашивать все-все, начиная с порховского дулага, фамилии, имена, когда я расстался с близнецами, что видел в Великих Луках. Бубнеж его пришлось слушать шесть часов, после чего — уже за полночь — его сменил совсем юный, безусый малый, не сразу перестававший краснеть после каждого своего вопроса. Вскоре я понял, что они хотят взять измором, поймать сонного подозреваемого на несоответствии, подначить его выболтать что-нибудь, что потом можно раскрутить до признания. Я решил держаться и не спать, и в первую ночь это получилось. Днем мне не дали выспаться: как только я садился на койку и прикрывал глаза, гремели ключи и врывались надзиратели, а вечером опять повлекли на допрос. Я брел, пошатываясь, и вспоминал, где мы и что это за казематы. Меня встретил улыбчивый, лоснящийся, круглолицый, начинающий лысеть курчавый парень, который ел нарезанное дольками красное яблоко, а когда я засыпал, продолжал ровным голосом расспрашивать, а потом орал фальцетом, чтобы я очнулся. Вслед за ним потянулась карусель разных их работников, в форме и без, моложавых и пожилых. Одни подходили формальнее, другие — с сердцем, кто-то хватал за грудки, кого-то я толкнул в ответ на тычок в живот, но у всех у них в глазах засела тихая ненависть. Я перестал подписывать протоколы. Так и черкал: «Не подписываюсь». В третью ночь мне пригрезилась Анна с передачей в узелке, а наутро голова моя моталась, как у куклы. Захотелось сдаться и быстрее убыть в лагерь, хоть бы и лес валить, только чтобы не гнить в подземном саркофаге, как предсказывал следователь. Конечно, хотелось и мгновенной смерти, но быстро умереть было невозможно. Кажется, размышляя именно об этом, я заснул стоя у оконца, шумно рухнул на пол, и в камеру тотчас вбежали. Надзиратели растормошили меня и сунули в нос нашатырный спирт. В тот день на допросах я старался молчать и отвечать нечто односложное, потому что все время комментировал невпопад. Вместо одних вопросов мне грезились другие, и, когда я уже не мог ни стоять, ни сидеть, все вдруг кончилось.
Я проснулся в камере. Все тело болело, словно после многокилометрового перехода. Ходить я смог лишь ковыляя и опираясь на край топчана. Лампочка не горела, следовательно был день. Но почему мне разрешили лежать? Надеясь, что дело не в том, что я сболтнул то, что им нужно, или согласился с необходимым для успеха следствия утверждением, я стал есть похлебку и думать, как похожи все эти крепкие ребята-следователи. Неколебима была их уверенность в себе, и в то же время в глазах маячило: я такая же жертва, как ты, мы в одной клетке, под одной лупой, в одной тюрьме.
Вспомнилось, как еще под Калинином мы маршировали всем батальоном перед приехавшим на офицерские курсы командованием. Это было прекрасно — двигаться с сильной, мускулистой, всесметающей массой. Это мгновенно атрофировало чувства и способность сомневаться, снимало ответственность за все, что бы ты ни делал. В тот день я слился с марширующей толпой и стал ее молекулой. Вспоминая странные фигуры, в которые складывалась стая скворцов над Мезом, я понял, что затянутые в облако птицы неподвластны себе — они мечутся, сами не зная, почему их влечет в ту или иную сторону. Тогда, в Профондевиле, мы с Эмилем побежали на набережную, чтобы разглядеть скворцов поближе, и мне прямо-таки бросилось в глаза, что расстояние между птицей и птицей всегда было одинаково. Когда происходил маневр, все внимание членов стаи отвлекалось на то, чтобы не врезаться в соседей, блюсти дистанцию и продолжать движение со всеми. Все наитие, весь их птичий ум и инстинкт работали на совпадение с траекторией общего движения. Движение не со всеми почему-то вызывало у скворцов свирепое беспокойство. Главной задачей вожаков было поднять это воображаемое тело в воздух, а дальше птицы сами уже не смогут думать о цели полета, даже если захотят, — и будут раз за разом повторять безопасный общий маневр. А вот что они станут делать, зависит только от авангарда, от направляющих. Авангард, например, способен прикинуться, что стаю атакуют хищники — хотя хищники на самом деле могут кружить где-то вдалеке. Все эти стажеры, младшие следователи, юные дознаватели, да и сфинкс, и конвоиры, и их начгарнизона, и высший чекист, и партийные жрецы — все они в одной огромной стае и маршируют с легким сердцем, задумываясь только над тем, чтобы не отклониться от общей траектории. Вся же вина, вся злоба проистекает от вожаков, определяющих, какую фигуру выполнять. На них ответственность не только за вектор движений, а за каждую птицу, за ее страх — и поэтому бессмысленно ненавидеть летящих в стае, они лишь шея, или даже туловище, а может, и хвост небесной фигуры.
Все стало как прежде — ни допросов, ни даже звуков жизни из коридора. Спустя неделю за мной пришли и повели уже на третий этаж, в узкую комнату, где в одну из стен было вставлено темное стекло. Надзиратель клацнул наручниками и взял меня за руку. Так мы простояли 15 минут, после чего вышли и вернулись в подвал. Ровно такая же процедура повторилась еще через несколько дней. После этого, почти сразу, мы вновь встретились со сфинксом. Теперь он уже не лицедействовал, а просто велел сесть. Раскрыв свою папку, он торжественно зачитал вслух: «На очной ставке бывший рядовой так называемой Русской национальной народной армии, настоящее название „Особое соединение Граукопф“, подчинялась отделу немецкой разведки 2-Б группы армий „Центр“, Филимонов П.К. опознал Соловьева С.Д., указал его псевдоним Росс и сообщил, что Соловьева С.Д. непосредственно перед операцией „Березино — Могилев" командир батальона в городе Шклов, Грачев выгнал из штаба с криком „В ближайшее дело пойдешь стрелять партизан в лес", и он, Филимонов П.К., видел Соловьева С.Д., получавшего перед выступлением стрелковой роты оружие. Кроме того, бывший офицер центрального штаба „Граукопф" Ресслер В.А. на очной ставке также опознал Соловьева С.Д. как Росса Дмитрия Сергеевича и показал, что тот принимал деятельное активное участие в военных совещаниях руководителей „Граукопф“, а вовсе не только составлял отчеты, как утверждал подследственный. Сам Соловьев С.Д. в ходе следственных мероприятий также подтвердил, что, служа на стороне гитлеровской армии, брал оружие в руки…» Не дожидаясь состава преступления, который, конечно, тянул на военное предательство, я перебил его: «Вы хотите меня убить?» Он рассердился: «Да что вы заладили про „убить“?! Никто вас не расстреляет, не военное время! Потрудитесь на благо родины, а там, глядишь, и скощуха предателям выйдет. У вас сейчас — запомните — последний шанс чистосердечно во всем признаться и покаяться, и тогда, быть может, десятку дадут, а не двадцать пять».