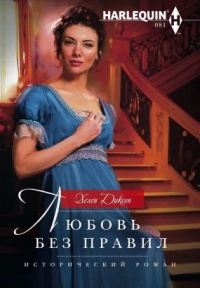Книга Неравный брак - Анна Берсенева
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Она подхватила шляпку и побежала вверх по лестнице – наверное, за картонкой.
– Ну пожалуйста, – смущенно заглядывая Еве в глаза, попросил Артем. – Ну мне очень хочется тебе ее подарить!
Наверное, его смущение было связано с полной и очевидной бесполезностью такого подарка. Но у Евы совсем другое мелькнуло в эту минуту в голове.
«Сколько же это стоит? – подумала она. – Я даже на ценник не посмотрела… Но мне же и в голову не могло прийти!»
Судя по ярлычкам, пришпиленным к другим манекенам, выбранная Артемом шляпка стоила немало. Ева уже хотела сказать, что не может позволить, чтобы он потратил сумму, равную приличной месячной зарплате, даже на самую прекрасную шляпку… Но тут же поняла, что сказать ему такое невозможно. Кому угодно, только не ему! Именно она не может сказать ему такое, потому что их разделяют пятнадцать лет, которых он не хочет замечать. И невозможно даже намекнуть, что не надо в его годы так бесшабашно тратить деньги на женщину. Ведь не говорила же она ничего подобного Вернеру в бутике на Стефанплатц!
Можно было сколько угодно объяснять себе, что между графом де Фервалем и Артемом – дистанция огромного размера, и это было чистой правдой, но…
– Спасибо тебе, – шепнула Ева, целуя Артема в висок.
Уже ночью, когда они лежали на узкой кушетке под географической картой, Ева вдруг сказала, приподнявшись на локте и заглядывая ему в лицо:
– Как же у тебя это получается? Как ты это делаешь?
– Что? – Артем открыл глаза.
– Я не знаю, как назвать… Может быть: чтобы я почувствовала себя такой, какую ты меня хочешь. Как в магазинчике этом. Шпионкой, барышней, девчонкой…
– Тебе кажется. – Он улыбнулся в полумраке комнаты. – Ничего такого я не делаю. Но я тебя так люблю…
Откинув назад голову, вся изогнувшись в его объятиях, сквозь счастливый туман Ева видела, как белеют на столе широкие кружевные поля, как легкие ленты трепещут от врывающегося в открытое окно ночного ветра.
Все сегодня было как всегда – и только он был не такой. Тихий светлый день позднего августа струился в окна, ветер колыхал занавески… С самого утра, с первой минуты пробуждения Ева почувствовала его тревогу.
Артем вел себя с нею как обычно. Может быть, даже внимательнее сегодня, чем обычно. Но в том состоянии обостренного внимания к нему, в котором Ева находилась все три проведенные с ним недели, ее трудно было обмануть внешним спокойствием. Она видела, как весь день мелькает в его глазах смущение, когда он смотрит на нее, как быстро отводит он взгляд, читая безмолвный вопрос в ее глазах…
– Что случилось, Тема? – наконец не выдержала Ева.
Было уже часов пять пополудни. Артем сидел за письменным столом и перебирал какие-то фотографии. Он замер, как будто ее вопрос застал его врасплох, потом медленно повернул голову, посмотрел на Еву тем смущенным взглядом, который весь день не давал ей покоя. Теперь в его глазах, кроме смущения, стояло еще и отчаяние.
– Завтра мама возвращается. – Он кашлянул, судорожно сглотнул. – В десять самолет, я должен ее встретить.
Гнетущая тишина повисла в комнате.
– Что ж… – Ева первая нарушила молчание. – Конечно, тебе надо встретить. В Шереметьеве?
– Да, – кивнул он и снова отвел глаза.
– В десять самолет, – зачем-то повторила она. – Часов в восемь надо из дому выйти, проснуться пораньше. – Артем любил поспать и просыпался всегда гораздо позже Евы. – У тебя есть будильник? Хотя – зачем? Я проснусь и тебя разбужу.
– Зачем ты так! – выговорил Артем; отчаяние слышалось в его голосе. – Не надо… так. – Это он произнес уже растерянно. – Я не знаю…
– Но что же делать, Тема? – тихо сказала Ева. – Невозможно ведь бесконечно… Должна же она была приехать когда-нибудь. – И предложила, не делая паузы: – Пойдем погуляем?
– Пойдем, – кивнул он, не поднимая глаз. – Конечно, пойдем, если ты хочешь.
Гулять они пошли в сад «Эрмитаж», который Ева любила за милую провинциальность, такую неожиданную в самом центре Москвы. Они и раньше ходили сюда вдвоем – сидели в белой деревянной беседке возле читальни, бродили по дорожкам между выкрашенными серебрянкой молчащими фонтанами, обедали на открытой веранде когда-то знаменитого, а теперь захудалого ресторана.
Весь этот вечер Ева старалась побольше говорить. Расспрашивала о чем-то Артема, рассказывала сама – о Вене, о Моцартовском фестивале в Зальцбурге, о фонтанах Шенбрунна, еще о чем-то красивом и радостном. Он слушал, отвечал, если она о чем-нибудь его спрашивала, – как-то слишком поспешно отвечал, торопливо.
И все время стояло в его глазах отчаянное смущение, от которого сердце у Евы переворачивалось.
Она почти со страхом ждала ночи – со страхом за себя: боялась не сдержать невыносимого чувства, которое разрывало ее изнутри, боялась напугать его тем, что не могла назвать иначе, как исступлением.
Наверное, из-за этого страха Ева чувствовала себя скованной, зажатой в эту последнюю ночь. Впервые она была с ним такой, и Артем не мог этого не ощутить. Ева видела, что и он сдерживает себя, что он осторожен и робок с нею, что не дает волю страсти, словно не верит в свое право быть с ней таким, каким ему хочется быть.
Иногда, забывшись, он начинал целовать ее с прежней горячностью, задыхаясь, обжигал поцелуями ее грудь – и вдруг вздрагивал и быстро отстранялся. Или, в последние секунды, начинал сдерживать себя, словно стесняясь того, как по-юношески быстро достигает самого сильного и острого наслаждения. И в самом наслаждении он тоже сдерживал себя этой ночью, хотя прежде не стеснялся ни стонов своих, ни сотрясающих все тело, заставляющих мускулы каменеть и скручиваться, последних судорог.
И Ева не чувствовала в эту ночь того, что чувствовала с ним всегда: мгновенного, стремительно разгорающегося в ее теле пожара. Ей не надо было ни долгих выверенных ласк, ни холодного мужского умения, чтобы этот пожар охватил ее всю, до последней частички, а нужна была только любовь, от которой Артем каждый раз сам сгорал, как впервые.
Но сегодня он словно боялся, не отпускал себя. А обыкновенного, позволяющего экономить силы опыта ему просто недоставало. И каждое прикосновение друг к другу становилось для обоих мучением.
Когда Артем наконец уснул, квадратик неба в окне уже посветлел. Ева перестала делать вид, что спит. Она приподнялась, опершись локтем о подушку, жадно всматриваясь в его лицо, – может быть, в последний раз.
Брови у него во сне вдруг начинали хмуриться, губы вздрагивали, как у ребенка, и ей казалось, что слезы вот-вот покажутся из-под его смеженных век. Но все это – и непроходящее печальное напряжение всех черт, и вздрагивающие губы, и тревожный сон – почему-то вызывало не материнскую жалость к нему, а совсем другое чувство…
Ева призывала на помощь всю свою способность осмысливать собственные ощущения, изо всех сил старалась быть честной перед собою – и все-таки не находила у себя в душе того, чего так боялась: материнской жалости к нему, ласкового превосходства, желания защитить. Наоборот, она ощущала собственную беззащитность, и мысль о завтрашнем дне приводила ее в ужас.