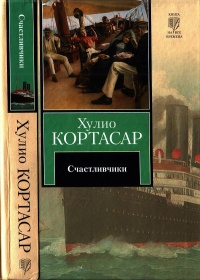Книга Игра в классики - Хулио Кортасар
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
(И когда их почти уже не стало видно в глубине улицы Невер, когда они, должно быть, дошли до того места, где грузовик сбил Пьера Кюри[426] («Пьера Кюри?» — спросила Мага, страшно удивленная и готовая узнать что-то новое), они неторопливо свернули на высокий берег реки и облокотились на лоток букиниста, хотя Оливейре лотки букинистов всегда казались катафалками в ночи, чередой гробов, некстати выставленных на каменном парапете, и однажды ночью, когда выпал снег, они, шутки ради, палочкой написали RIP[427] на всех жестяных лотках, но полицейскому их шутка совсем не показалась веселой, он им так и сказал, напомнив об уважении и о туризме, хотя при чем здесь был этот последний, было совершенно непонятно. В те дни еще был кибуц, по крайней мере возможность кибуца, можно было ходить по улицам, писать RIP на лотках букинистов и смотреть на влюбленную клошарку, это тоже входило в запутанный список дел, противоречащих общепринятым, всего того, что следует делать, — испытать и оставить за собой. Вот как оно было, а теперь холодно, и нет никакого кибуца. Разве что обмануть самого себя, пойти купить красного вина у Хабеба и устроить кибуц в духе Кубла Хана,[428] не обращая внимания на разницу между опиумной настойкой и винцом старины Хабеба.)
— Иностранец, — сказала клошарка, глядя на новое пополнение уже с меньшей симпатией. — Ну да, испанец. Итальянец.
— И то, и другое, — сказал Оливейра, делая мужественное усилие, чтобы выдержать исходивший от нее запах.
— Но работа у вас есть, это видно, — не могла не признать клошарка.
— Да нет. Я всего лишь приносил книги одному старику, но теперь мы больше не видимся.
— Стыда в этом нет, если только работа не поперек души. Я, когда молодая была…
— Эмманюэль, — сказал Оливейра, кладя руку туда, где под многочисленными одежками должно было быть ее плечо. Клошарка вздрогнула, услышав свое имя, искоса взглянула на него, потом достала зеркальце из кармана пальто и посмотрела на свои губы. Оливейра подумал, в силу каких обстоятельств клошарке могло прийти в голову вытравить волосы перекисью. Она стала красить губы огрызком помады, целиком уйдя в это занятие. У него было достаточно времени, чтобы в который уже раз посчитать себя круглым дураком. Положить руку на плечо, после того что произошло с Берт Трепа. Результат широко известен. Все равно что дать под зад самому себе, бросить себе вызов. Кретин безмозглый, недоумок, придурок недоделанный. RIP, RIP. Malgré le tourisme.[430]
— Откуда вы знаете, что меня зовут Эмманюэль?
— Не помню. Кто-то сказал.
Эмманюэль достала коробочку из-под леденцов Вальда, где у нее была розовая пудра, и стала пудрить щеки. Если бы Селестэн был здесь, тогда конечно. Тогда бы наверняка. На Селестэна удержу нет. Целая куча банок с сардинами, le salaud.[431] Вдруг она вспомнила.
— Ах да, — сказала она.
— Очень может быть, — согласился Оливейра, закутываясь, как мог, в клубы дыма.
— Мы видели вас вместе много раз, — сказала Эмманюэль.
— Мы тут часто бродили.
— Она всегда останавливалась поговорить со мной, когда была одна. Хорошая девушка, немного с сумасшедшинкой.
«Полностью согласен», — подумал Оливейра. Он слушал Эмманюэль, которая вспоминала все охотнее, пакет отдала задаром, а в нем белый свитер, почти не ношенный, прекрасная девушка, она не работала, не тратила времени зря, прикрываясь дипломом, иногда немножко сумасшедшая, деньгами сорила почем зря на корм для голубей на острове Сен-Луи, то грустная была, а то со смеху умирала. А однажды пришла злая.
— Мы с ней подрались, — сказала Эмманюэль, — из-за того, что она мне советовала оставить Селестэна в покое. И больше она не приходила, а я ее так полюбила.
— И часто она приходила с вами поболтать?
— А вам это не по нраву, так ведь?
— Не в этом дело, — сказал Оливейра, глядя на другой берег.
Нет, в этом, потому что Мага не все рассказала ему о клошарке, отсюда неизбежные обобщения и так далее. Запоздалая ревность, смотрите у Пруста, утонченная пытка and so on.[432] Наверное, будет дождь, ива будто повисла в воздухе, пропитанном влагой. И стало не так холодно, чуть потеплело. Кажется, он сказал что-то вроде «она мне много о вас рассказывала», потому что у Эмманюэль вырвался довольный и ехидный смешок, при этом черным от грязи пальцем она продолжала натирать себе щеки розовой пудрой; время от времени она поднимала руку и взбивала слипшиеся волосы, покрытые чем-то вроде головной повязки в красно-зеленую полоску, скорее всего это был шарф, вытащенный из мусорного бака. В общем, пора было уходить, встать и идти в город, он так близко, метров шесть в высоту, там он как раз и начинается, по другую сторону парапета, за жестяными лотками RIP, где голуби, нахохлившись, переговаривались в ожидании первых лучей солнца, еще не набравшего силу, похожего, в половине девятого утра, на бледную манную крупу, которая сеет с низкого неба, но не достает до земли, потому что, как всегда, собирается дождь.
Когда он уже уходил, Эмманюэль окликнула его. Он подождал, пока она подойдет, и они вместе поднялись по лестнице. В заведении Хабеба они купили литр красного вина и, пройдя по улице Ирондель, укрылись в крытой галерее. Эмманюэль соблаговолила вытащить пачку газет, припрятанную между пальто, и они соорудили прекрасную подстилку в уголке, который Оливейра кое-как обследовал, посветив себе спичками. С другого конца галереи доносился храп, от которого несло чесноком, цветной капустой и дешевым забытьем; прикусив губу, Оливейра примостился поудобнее в углу у стены и притулился к Эмманюэль, которая уже прихлебывала из бутылки, то и дело довольно отфыркиваясь. Органы чувств не слишком привередливы, дыши носом и ртом и вдыхай худший из запахов, запах немытого человеческого тела. Одна минута, две, три, все легче и легче, как всегда, когда чему-то учишься. Сдерживая подступающую тошноту, Оливейра взял бутылку, и хоть и не видел, но знал, что горлышко измазано красной губной помадой и слюной, а запахи в темноте проступили еще сильнее. Закрыв глаза, словно от чего-то защищаясь, он, не отрываясь, вытянул около четверти литра красного вина. А потом они закурили, сидя плечом к плечу, очень довольные. Тошнота отступала, не уничтоженная, но униженная, склонив голову в ожидании, так что можно было снова подумать о своем. Эмманюэль без умолку говорила, произносила торжественные речи, прерываемые икотой, по-родственному проклинала невидимого Селестэна, пересчитывала банки с сардинами, и каждый раз, когда Оливейра затягивался, он видел ее лицо с грязными разводами на лбу, полные губы, влажные от вина, победную повязку сирийской богини, поверженной вражеским войском, голову, как у хризо-элефантинной статуи, сброшенную в пыль, перепачканную кровью и грязью, но сохранившую свою бессмертную полосатую красно-зеленую диадему, Великая Мать,[433] распростертая на пыльной земле, отданная на поругание пьяным солдатам, которые развлечения ради мочатся на ее расколотые груди, а потом один из них, самый отъявленный шутник, встает перед ней на колени среди орущей толпы и, высвободив свой восставший член, мастурбирует над ее мраморным телом, заливая спермой глазницы, откуда офицеры уже вынули драгоценные камни, и полуоткрытый рот, принимающий уничижение как последний дар, перед тем как уйти в забвение. И было так естественно, когда в темноте рука Эмманюэль касалась его руки, и она доверительно клала свою руку ему на плечо, а другой рукой искала бутылку, после чего слышались булькающие звуки и довольное сопение, так естественно, словно лицевая сторона медали стала ее обратной стороной, словно это был противоречащий здравому смыслу знак того, что, возможно, удастся выжить.