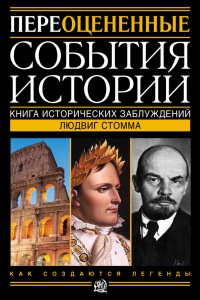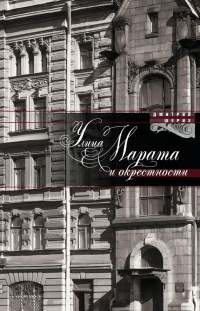Книга Город у эшафота. За что и как казнили в Петербурге - Дмитрий Шерих
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Впечатляющая запись, поистине страшная история. Кажется, первое аутодафе в петербургской истории. Но главное в другом: рассказ голштинского камер-юнкера со всей очевидностью подчеркивает, какой все-таки огромный путь прошли мы, наш город, вся наша культура с той давней поры.
Возможно, все же пора оставить смертную казнь в прошлом.
Дмитрий Дмитриевич Ахшарумов (1823–1910)
Сын выдающегося военного историка Д.И. Ахшарумова, участник кружка М.В. Буташевича-Петрашевского. Был в числе приговоренных к смерти, расстрел ему заменили арестантскими ротами. После освобождения окончил Me дико-хирургическую академию, много писал о медицине. Его воспоминания о событиях 22 декабря 1849 года — наиболее яркое и достоверное свидетельство о том, что происходило в день намеченной казни.
«Солнца не видал я восемь месяцев, и представшая глазам моим чудесная картина зимы и объявший меня со всех сторон воздух произвели на меня опьяняющее действие. Я ощущал неописанное благосостояние и несколько секунд забыл обо всем. Из этого забвенья в созерцании природы выведен я был прикосновением посторонней руки; кто-то взял меня бесцеремонно за локоть, с желанием подвинуть вперед, и, указав направление, сказал мне: «Вон туда ступайте!» Я подвинулся вперед, меня сопровождал солдат, сидевший со мною в карете. При этом я увидел, что стою в глубоком снегу, утонув в него всею ступнею; я почувствовал, что меня обнимает холод. Мы были взяты 22 апреля в весенних платьях и так в них и вывезены 22 декабря на площадь.
Направившись вперед по снегу, я увидел налево от себя, среди площади, воздвигнутую постройку — подмостки, помнится, квадратной формы, величиною в три-четыре сажени, со входною лестницею, и все обтянуто было черным трауром — наш эшафот. Тут же увидел я кучку товарищей, столпившихся вместе и протягивающих друг другу руки и приветствующих один другого после столь насильственной злополучной разлуки. Когда я взглянул на лица их, то был поражен страшною переменой; там стояли: Петрашевский, Львов, Филиппов, Спешнев и некоторые другие. Лица их были худые, замученные, бледные, вытянутые, у некоторых обросшие бородой и волосами. Особенно поразило меня лицо Спешнева; он отличался от всех замечательною красотою, силою и цветущим здоровьем. Исчезли красота и цветущий вид; лицо его из округленного сделалось продолговатым; оно было болезненно, желто-бледно, щеки похудалые, глаза как бы ввалились, и под ними большая синева; длинные волосы и выросшая большая борода окружали лицо.
Петрашевский, тоже сильно изменившийся, стоял нахмурившись — он был обросший большой шевелюрою и густою, слившеюся с бакенбардами бородою. «Должно быть, всем было одинаково хорошо», — думал я. Все эти впечатления были минутные; кареты все еще подъезжали, и оттуда один за другим выходили заключенные в крепости. Вот Плещеев, Ханыков, Кашкин, Европеус… все исхудалые, замученные, а вот и милый мой Ипполит Дебу — увидев меня, бросился ко мне в объятия: «Ахшарумов! И ты здесь!» — «Мы же всегда вместе!» — ответил я. Мы обнялись с особенным чувством кратковременного свидания перед неизвестной разлукой. Вдруг все наши приветствия и разговоры прерваны были громким голосом подъехавшего к нам на лошади генерала, как видно, распоряжавшегося всем, увековечившего себя в памяти всех нас… следующими словами:
— Теперь нечего прощаться! Становите их, — закричал он.
Он не понял, что мы были только под впечатлением свидания и еще не успели помыслить о предстоящей нам смертной казни; многие же из нас были связаны искреннею дружбою, некоторые родством — как двое братьев Дебу. Вслед за его громким криком явился перед нами какой-то чиновник со списком в руках и, читая, стал вызывать нас каждого по фамилии.
Первым поставлен был Петрашевский, за ним Спешнев, потом Момбелли и затем шли все остальные — всех нас было двадцать три человека (я поставлен был по ряду восьмым). После того подошел священник с крестом в руке и, став перед нами, сказал: «Сегодня вы услышите справедливое решение вашего дела — последуйте за мною!» Нас повели на эшафот, но не прямо на него, а обходом, вдоль рядов войск, сомкнутых в каре. Такой обход, как я узнал после, назначен был для назидания войска, и именно Московского полка, так как между нами были офицеры, служившие в этом полку, — Момбелли, Львов… Священник, с крестом в руке, выступал впереди, за ним мы все шли один за другим по глубокому снегу. В каре стояли, казалось мне, несколько полков, потому обход наш по всем четырем рядам его был довольно продолжительный. Передо мною шагал высокий ростом Павел Николаевич Филиппов, впоследствии умерший от раны, полученной им при штурме Карса в 1854 году, сзади меня шел Константин Дебу. Последними в этой процессии были: Кашкин, Европеус и Пальм. Нас интересовало всех, что будет с нами далее. Вскоре внимание наше обратилось на серые столбы, врытые с одной стороны эшафота; их было, сколько мне помнится, много… Мы шли, переговариваясь: «Что с нами будут делать?» — ,Для чего ведут нас по снегу?» — ,Для чего столбы у эшафота?» — «Привязывать будут, военный суд — казнь расстрелянием». — «Неизвестно, что будет, вероятно, всех на каторгу…»
Такого рода мнения высказывались громко, то спереди, то сзади от меня, и мы медленно пробирались по снежному пути и подошли к эшафоту. Войдя на него, мы столпились все вместе и опять обменялись несколькими словами. С нами вместе взошли и нас сопровождавшие солдаты и разместились за нами. Затем распоряжались офицер и чиновник со списком в руках.
Начались вновь выкликивание и расстановка, причем порядок был несколько изменен. Нас поставили двумя рядами перпендикулярно к городскому валу. Один ряд, меньший, начинавшийся Петрашевским, был поставлен с левого фаса эшафота, там были: Петрашевский, Спешнев, Момбелли, Львов, Дуров, Григорьев, Толь, Ястржембский, Достоевский…
Другой ряд начинался кем не помню, но вторым стоял Филиппов, потом я, подле меня Дебу-старший, за ним его брат Ипполит, затем Плещеев, Тимковский, Ханыков, Головинский, Кашкин, Европеус и Пальм. Всех нас было двадцать три человека (Ахшарумов неточен: на эшафоте был 21 человек. — Д.Ш.), но я не могу вспомнить остальных… Когда мы были уже расставлены в означенном порядке, войскам скомандовано было «на караул», и этот ружейный прием, исполненный одновременно несколькими полками, раздался по всей площади свойственным ему ударным звуком. Затем скомандовано было нам: «Шапки долой!» — но мы к этому не были подготовлены, и почти никто не исполнил команды, тогда повторено было несколько раз: «Снять шапки, будут конфирмацию читать», — и с запоздавших приказано было стащить шапку сзади стоявшему солдату. Нам всем было холодно, и шапки на нас были хотя и весенние, но все же закрывали голову. После того чиновник в мундире стал читать изложение вины каждого в отдельности, становясь против каждого из нас. Всего невозможно было уловить, что читалось, — читалось скоро и невнятно, да и притом же мы все содрогались от холода. Когда дошла очередь до меня, то слова, произнесенные мною в память Фурье, «о разрушении всех столиц и городов», занимали видное место в вине моей.
Чтение это продолжалось добрых полчаса, мы все страшно зябли. Я надел шапку и завертывался в холодную шинель, но вскоре это было замечено, и шапка с меня была сдернута рукою стоявшего за мною солдата. По изложении вины каждого конфирмация оканчивалась словами: «Полевой уголовный суд приговорил всех к смертной казни — расстрелянием», и 19-го сего декабря государь император собственноручно написал: