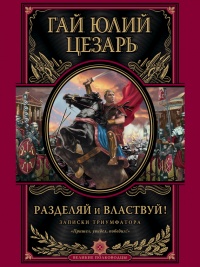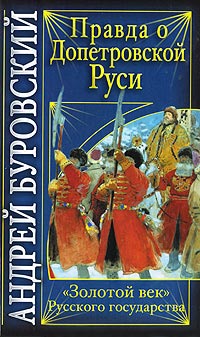Книга Азеф - Валерий Шубинский
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Савинков съездил к Азефу в Гельсингфорс. Они придумали новый план: убить Дубасова в Страстную субботу (1 апреля), в день, когда он обязательно отправится на торжественное богослужение в Кремль. Метальщиков можно было поставить у трех главных кремлевских ворот: Никольских, Троицких и Боровицких.
Но по возвращении в Москву террористы заметили за собой слежку и еле ушли от филёров.
Савинков вместе со всей своей командой вновь отправился в Гельсингфорс. В первый раз за все годы он, безупречный исполнитель, стал упрашивать Толстого (Валентина Кузьмича, Ивана Николаевича) взять дело в собственные руки.
Азеф сперва отказывался — потом согласился.
Боевики, переждав несколько дней, вернулись в Москву — видимо, 5–7 апреля. Азеф должен был последовать за ними через неделю-другую.
Недели эти были богаты на драматические и необычные события.
Первое произошло в Москве.
15 апреля при разрядке зарядов случилось обычное несчастье. Однако 23-летнюю Машу Беневскую не убило: ей только оторвало кисть руки и палец на второй руке и поранило лицо. Беневской хватило самообладания кое-как перевязать руку, дождаться, пока придет живший с ней на квартире Шиллеров, и доехать до ближайшей больницы.
Шиллеров спешно покинул квартиру, оставив там гремучий студень, динамитную трубку, фотографию Дубасова — полный набор улик. 21 апреля все это нашел дворник. Чтобы связать между собой эти улики и обратившуюся в ближайшую больницу израненную девушку, хватило даже мозгов московской полиции.
Мария Аркадьевна Беневская, румяная круглолицая барышня, генеральская дочь, по свидетельству Савинкова, была пламенной христианкой, не расстававшейся с Евангелием и как-то вычитавшей в нем оправдание политических убийств. Она считалась невестой Моисеенко.
Беневскую судили осенью и приговорили к смертной казни (времена были уже жестокие), замененной десятью годами каторги. Мать ее во время суда покончила с собой. Моисеенко женился на однорукой каторжнице и уехал с ней в Сибирь. На этом закончилась террористическая работа Опанаса. (Потом они расстались: Беневская на каторге влюбилась в бывшего матроса с «Потемкина».)
Примерно в тот же день или, скорее, чуть раньше в Петербурге имело место происшествие гораздо более странное.
Вот как оно описано Герасимовым:
«Это было в середине апреля 1906 года, когда мы настойчиво искали следы людей, готовивших покушение на Дурново. Мы знали, что наблюдение за домом Дурново ведут террористы, переодетые извозчиками. Давно уже поняв, что Боевая Организация посылает своих людей на дело под видом извозчиков, политическая полиция вела наблюдение за постоялыми дворами, где жили извозчики, и содержатели этих дворов должны были постоянно информировать полицию обо всех извозчиках, которые по образу жизни, по внешнему виду, поведению бросаются в глаза и кажутся подозрительными. В результате тщательного наблюдения один из филёров заметил такого „странного“ извозчика, который останавливался неподалеку от дома, где проживал Дурново, и весьма упорно оставался на этом дежурном пункте. Прошло еще некоторое время, и моим агентам удалось напасть на след еще двух террористов, наблюдавших в качестве „извозчиков“ за Дурново и сносившихся между собою. Над этими тремя наблюдателями мы установили свое контрнаблюдение, которое обнаружило, что все три „извозчика“ поддерживают связь с четвертым лицом, которое явно играет роль руководителя всей группы. Другого не оставалось сделать, как арестовать всех четырех, и я собирался отдать об этом распоряжение. Но в самое это время возникло одно непредвиденное обстоятельство.
Дело в том, что один из старших филёров, руководивший наблюдением за этой группой террористов, в своих ежедневных рапортах называл четвертого террориста, который поддерживал сношения с „извозчиками“, — „наш Филипповский“, — что мне, конечно, не могло не броситься в глаза. Я вызвал его для объяснений, и тот мне доложил, что четвертого из наблюдаемых он знает уже давно, что лет 5–6 тому назад ему показал его в Москве Е. Медников в кондитерской Филиппова (отсюда и имя: „Филипповский“). По словам Медникова, этот Филипповский — один из самых важных и ценных секретных сотрудников. Поразительное известие! Мне не приходилось никогда слышать об агенте с таким именем».
Герасимов обратился к Рачковскому. Тот категорически заявил, что никакого агента в Боевой организации у него нет и быть не может. Тогда Герасимов вызвал «Филипповского» к себе. Тот назвался «инженером Черкасом», требовал немедленно освободить его и вообще разыгрывал оскорбленную невинность. Герасимов ответил: «Я знаю, что вы раньше работали в качестве нашего секретного сотрудника». Филипповский отрицал это, но «неуверенно».
Можно не сомневаться, что — намеренно неуверенно.
Герасимов отправил арестованного в камеру — «подумать на досуге». Через два дня он заявил, что, в самом деле, является сотрудником департамента и желает поговорить со своим прежним начальником Рачковским.
«Из тона последней фразы я вынес впечатление, что эта беседа для Рачковского не будет слишком приятной. С тем большим удовольствием я позвонил Рачковскому:
— Петр Иванович, мы задержали того самого „Филипповского“, о котором я вас спрашивал. Представьте, он говорит, что хорошо вас знает и служил под вашим начальством. Он сейчас сидит у меня и хочет говорить в вашем присутствии. Не придете ли вы сейчас ко мне?
Рачковский, как обычно, притворился ничего не ведающим и завертелся: что, да как, и в чем именно дело? Какой это может быть „Филипповский“? Я не могу такого припомнить… Разве что Азеф?»
Через 15 минут Герасимов стал свидетелем следующей сцены.
«…Рачковский явился в Охранное отделение. С обычной своей сладенькой улыбочкой он разлетелся к „Филипповскому“, протягивая ему, как при встрече со старым другом, обе руки.
— А, мой дорогой Евгений Филиппович, давненько мы с вами не видались. Как вы поживаете?
Но „Филипповский“ после двух дней скудного арестантского питания обнаруживал мало склонности к дружеским излияниям. Он был чрезвычайно озлоблен и не скрывал этого. Только в самой смягченной форме можно было бы передать ту площадную ругань, с которой он обрушился на Рачковского. В своей жизни я редко слышал такую отборную брань. Даже на Калашниковской Набережной не часто так ругались. „Филипповский“ обвинял Рачковского в неблагодарности, в бесчеловечности и вообще во всяких преступлениях, совершать которые способен был только самый бессовестный человек.
— Вы покинули меня на произвол судьбы, без инструкций, без денег, не отвечали на мои письма. Чтобы заработать деньги, я вынужден был связаться с террористами, — кричал на него „Филипповский“.
Смущенный и сознающий свою вину, Рачковский чуть защищался, сквозь рой обрушившихся на него ругательств и обвинений бросая только слова:
— Но, мой дорогой Евгений Филиппович, не волнуйтесь так, успокойтесь!»[191]