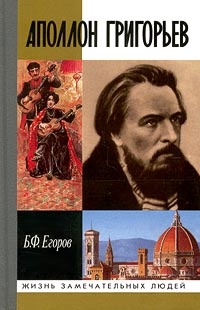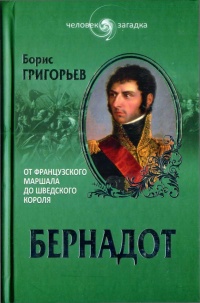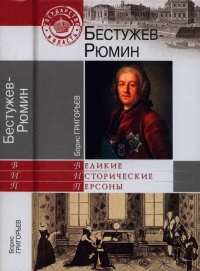Книга Малахов курган - Сергей Григорьев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Как всегда бывает на похоронах, несколько минут люди стоят над могилой в раздумье от смертной пустоты: как будто надо еще что-то сделать, а что – никто не знает. Мужчины надели шапки. Анна ждала, когда уйдут чужие, чтобы упасть на могилку и поплакать во весь голос.
Пирогов медлил уходить и неожиданно для всех опять снял шапку, приблизился к могиле и начал говорить, опустив глаза в землю. Он сказал сначала несколько слов на непонятном языке и продолжал:
– Эти слова великого поэта древности можно целиком применить к той, кого мы сейчас предали земле. Имя ее забудут, но не забудут великого дела, которое сделала женщина в Севастополе. Мы, я и мои сотрудники, ехали сюда с большим сомнением и даже с боязнью. Над нами издевались, что мы хотим ввести в военных госпиталях, да еще в военное время, женский уход за больными и ранеными. Я хорошо знал, какие грубые и жестокие нравы царят в военных госпиталях, слышал про жестокость и грубость служителей, про невежество и пьянство фельдшеров, про воровство смотрителей и директоров.
Надо мной смеялись: «Как?! Пирогов, человек ножа, хирург, и вдруг вздумал применять в полевых лазаретах такое нежное и мягкое средство, как женская рука! Да и может ли женщина вынести лазаретные ужасы: больные и раненые в грязнейшем белье, смрад от ужасных воспаленных ран, кровь, сукровица, нечистоты…»
Признаюсь, я и сам колебался и боялся неудачи. Нужна была именно смелость полевого хирурга, чтобы решиться. И я решился. Сначала я приехал сюда без сестер милосердия – только с врачами, чтобы присмотреться. То, что увидел, превзошло ужасом своим даже мои ожидания. Но вместе с тем я испытал несказанную радость. То, что у всех вызывало сомнение, злорадство, усмешки, – а по моему мнению, являлось верным средством исправить зло, – в Севастополе уже существовало.
Я при первом же визите в госпитали и лазареты нашел в них женщин, которые ходили за больными и ранеными – за чужими, как редко ходят даже за родными людьми. Это были жены и дочери матросов и одна жена морского офицера. Их никто не звал – они явились сами.
Я убедился, что почва для нашего дела в Севастополе уже готова, и больше не сомневался, а через четыре месяца никто не сомневался более, что женская рука в военно-лечебном деле полезна, необходима и незаменима. Среди прочих я в первые же дни заметил Февронию Андреевну Могученко, «сестрицу Хоню», как ее звали солдаты и матросы; так стал ее звать и я. Сегодня здесь мы ее похоронили. Прекрасная лицом, она была не менее прекрасна душой, и это помогло ей отринуть все грязное и злое.
Скажу, что первое время сестрица Хоня была моей правой рукой в борьбе с обиранием раненых и воровством госпитальной администрации. Она сохранила для семей умерших немало денег, которые иначе достались бы ненасытным ворам. Сестрица Хоня рассказала мне, как она впервые попала в госпиталь. Вахтер не хотел ее пускать. «У меня здесь жених лежит раненный», – сказала Хоня этому церберу[312], сторожившему вход в госпитальный ад. «Показывай, кто твой жених», – смягчился цербер. Хоня указала на первого, кто ей попался на глаза, – на раненого старого матроса. Вахтер разрешил Хоне остаться. На другой день цербер опять ей загородил дорогу: «Твой жених умер!» – «У меня здесь все женихи!» – ответила Хоня. Вахтер растерялся и больше не стал ее останавливать.
Да, у нее было то, что называется «юмором», покоряющим даже самых угрюмых людей. И это верно: она любила раненых и больных, как невеста. Хоня иногда давала раненым деньги, покупала для них сахар, чай, вино. Откуда эти деньги? Хоня призналась мне, что мать позволила ей распродать годами накопленное приданое. Спи вечным сном, милая сестра! Мы потеряли верного помощника, а раненые и больные – любимую сестру. Sid tibi terra levis[313], милая сестра!..
Пирогов низко поклонился, коснувшись рукой могильной земли, надел шапку и, ни на кого не глядя, пошел с кладбища.
Все слушали речь Пирогова с затаенным дыханием.
Анна не стала вопить на могиле дочери: после речи Пирогова у нее вылетели из головы все слова складного погребального плача.
На Страстной неделе[314]Великого поста из родительского дома ушла вторая дочь Могученко – Ольга.
Сухарный завод за бухтой восстановили, и Ольга каждый день рано утром уходила из дому на Павловский мысок, а оттуда в лодке переправлялась через Большую бухту к Сухарному заводу. Дорога до Павловского мыска была небезопасна: тут часто падали и рвались бомбы. Уйдя из дома в понедельник, Ольга не вернулась к ночи домой. Прошел вторник – Ольга не являлась. Мать и сестры думали вчера, что Ольга заночевала у какой-либо из своих подруг по заводу, – а может быть, ее ранило или убило по дороге? Утром в среду снарядили на Сухарный завод Веню справиться о сестре. Юнга не успел уйти, как к дому на фуре, сам правя конями, подъехал нарядный Мокроусенко с «Георгием» и медалью на груди.
– Где Ольга? – в упор спросила Анна.
– Не извольте беспокоиться, драгоценная Анна Степановна, – они находятся в полном здравии и шлют вам с любовью низкий поклон.
– Да где же она?
– Они избрали своим местопребыванием мою хату. Плавать с Малахова кургана на Северную сторону теперь сделалось уже опасным, – объяснил, немного стыдясь, Мокроусенко. – Вот они послали меня за сундуком.
– Бери свой сундук, да погляди, не пустой ли! – злобно выкрикнула Анна.
– Не сомневаюсь! – ответил Мокроусенко и, крякнув, приподнял сундук.
Шлюпочному мастеру никто, даже Веня, не хотел помочь, когда он выносил тяжелый сундук Ольги. Анна стояла, скрестив на груди руки, и сумрачно улыбалась, пока Мокроусенко трудился над тяжелым приданым Ольги.
Погрузив кладь на фуру, Мокроусенко вернулся в дом и, кланяясь, сказал:
– Бувайте здоровеньки, драгоценная теща, жалуйте к богоданному зятю на яичницу.
Анна подошла к печи и неизвестно зачем взяла в руки кочергу: печь не топилась…
Мокроусенко проворно скрылся за дверью.
– Ну вот и ушла самокруткой. Удружила, нечего сказать! Теперь ваш черед, любезные дочки. Чем еще Наташенька да Маринка порадуют. У Стрёмы, Веня говорит, курлыга[315]готова для дорогой супруги.
Наташа в первый раз в жизни вспылила и закричала на мать:
– Чего вы, маменька, на Ольгу взъелись! Сами вы с батенькой невенчанные весь век прожили. А я со Стрёмой на Красную горку[316]венчаться буду…