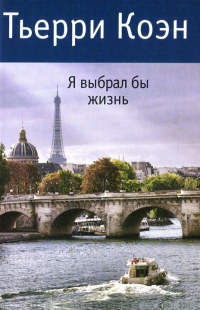Книга Полубрат - Ларс Соби Кристенсен
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Болетта исполнила несколько косолапых па, покружилась на месте и исчезла со смехом, будто смех пригласил её на танец и увёл, кружа. Может, с Северного полюса завсегдатаи расходятся таким манером, но в школе танцев Свае эти номера точно не пройдут. Если кто и пригласит меня, то один лишь плач, он склонится ко мне и занавесит меня своими патлами. За физиологию я в тот вечер больше не взялся. Сколько раз следует пережёвывать пишу? 26 раз. Пищу необходимо пережёвывать 26 раз, в противном случае вас ждёт язва, запор, гастрит, воспаление дёсен, гнилые зубы, грыжа и горб. Я продержался ужин, но ещё десяти не было, улёгся в кровать, хотя в сон не клонило, и я ненавидел этот зыбкий промежуток времени, переход ко сну, когда человек тупо лежит, а время прирастает расширениями, скобками и тире вводных предложений, надувается, точно голубой шарик, пока не лопается, порождая апатичный треск в голове да искры в глазах, словно перегоревшая лампочка, схрумканная темнотой. В голове у меня было слишком высокое напряжение. Свет давно погас, а мысли всё думали свою думу. Болетта велела мне смотреть девчонкам в глаза. Тогда я должен или танцевать на ходулях, или так запрокинуть голову, что шея сломается. Кто станет танцевать с таким клопом? Я ощупал свою руку. Потная, склизкая, хоть отвинчивай, выжимай да, прежде чем кого обнимать, вешай на просушку, пришпилив прищепкой, среди исподнего, шнурков и чёрных чулок. Лёжа в узкой кровати и настраиваясь на самое худшее, я завидовал ушедшему скитаться Фреду (когда шляешься, думать-то недосуг, голова занята бродяжничеством) и вдруг услышал стрекот швейной машинки в гостиной, мамин старенький «Зингер», а это всегда неспроста. Я любил этот звук, и он успокоил меня, зашил прорехи во мраке, мягко и ловко приметал веки, гладенько обтачал швы ночи, я сомлел, и снилось мне, что я скитаюсь по свету со швейной машинкой: это был прекрасный сон, я занимался тем, что латал Божий мир, а потом, выводя стежок за стежком за длинным синим столом, заснул и вдруг проснулся от того, что Фред вернулся домой, или он сам нарочно меня разбудил, короче, я проснулся. Он сидел на своей кровати и стягивал с себя башмаки, как обычно, не развязав шнурков, горел верхний свет. — Мутер подшивает мои брюки, — сообщил он. — Я натянул одеяло повыше — Правда? — Ага. Мои серые позапрошлогодние брюки. Укорачивает на полметра, если не больше. — Я не шевелился. Вслушивался. Машинка больше не стрекотала. Я слышал только, как лязгают блестящие ножницы у меня в голове, распарывают швы, режут мир. Фред хохотнул и в одежде улёгся на кровать. — Такого манжета я ещё не видел. Думаю, это мировой рекорд. По классу брюк.
В голову лезли завтрашние уроки. Где начинается процесс переваривания пищи? Во рту. На языке. В пальцах, берущих вилку с тарелки, в руках, несущих домой авоську с едой. Вспомнилась Тале, я ни разу не станцевал с ней и не знаю, успела ли она потанцевать хоть с кем. — Барнум, ты спишь? — Нет, — прошептал я. — Так скажи что-нибудь. — Я долго лежал молча. Потом спросил: — Где ты был? — Нигде. — Фред тоже надолго замолк. Думаю, он посмеивался. Но взглянуть на него я не решался. И свет погасить не отваживался. — Барнум, ты поступаешь в школу танцев? — Не знаю, — шепнул я. — Может быть. — Не знаешь? Не строй из себя дурачка. — Болетта меня записала. — Фред надрывался от хохота, расползавшегося по комнате. Скоро он вытеснит весь воздух. — Проще тебе было взять поносить мои спортивные трусы. Отличный наряд: лакированные туфли и трусы. Палки лыжные не забудь. — Фред, не говори так. — А если девчонки вздумают тянуть на тебя, ты сможешь ответить, мол, это трусы моего брательника. Одолжил штаны у брата, так и скажешь. Идёт? — Ну, пожалуйста, Фред. — Он помолчал. — Барнум, ты плачешь? — Я не плачу. — Нет, плачешь, я слышу. — Никто не плачет, — ответил я. Фред сел на кровати. — Барнум, ты рыдаешь по любому поводу. Ты трус, Барнум. — Не плачу я! — крикнул я. Фред вздохнул. Поднялся на ноги. — Барнум, ты можешь ответить мне на один вопрос? Если ты не хочешь ходить в школу танцев, почему ты не можешь просто сказать «нет»? — Я не ответил. Фред подошёл к двери и погасил свет, но, положив палец на выключатель, он повернулся ко мне и медленно покачал головой, вид у него был не сердитый, а огорчённый, да, огорчённый. — Не могу понять, какого чёрта я тебя собираю? — Так и сказал. Он употребил именно это слово: собираю, как будто я был маркой, эмблемой машины, автографом или крышкой от лимонада. Он лёг и скоро заснул. Сам я не спал, думал. Сперва о брюках; я представлял себе Фредовы брюки с манжетами рекордной ширины плюс висящий мешком блейзер и себя в этом наряде: лакированные туфли снизу и незабвенные пшеничные кудри сверху, Барнум с Фагерборга во всей красе, картинка светилась в голове резко и ослепительно, а кругом виднелись девочки, жительницы благородных Скилебека, Скарпсну и Бюгдёй, они наверняка ещё не блестяще воспитаны, поэтому недостаточно стервозны, чтобы прятать смех, они будут щуриться и таращиться, даже рты разинут, презрительный смех, улыбочки, прикрываемые тонкими руками, унизанными колечками, они собьются в кружок и ну шептаться тихо, но чтоб я услышал: этого колобка видели, им только коллекцию испортишь, пришлось встать на коленки, чтоб с ним познакомиться, так они поговорят и повернутся ко мне спиной, точно я пустое место, воздух, с которым смешивать свои духи и то много чести, так что волей-неволей придётся мне танцевать со Свае, с пластинкой, упёртой в пузо, и пока мы с ней выделываем па, у меня рвётся шов на манжете, штанина разворачивается, закрывает туфли и ложится на пол, все-все пары встают как вкопанные посреди вальса, вылупив на меня глаза, а я отползаю к дверям, волоча за собой полметра брюк, и кричу, что они не мои, а моего брательника Фреда, моего сводного, придурка, не умеющего читать, это его штаны и его вина, и от таких мыслей, прокрутившихся в голове мгновенно и разом, бешеным вихрем слайдов, прощёлкавших перед глазами в чёрных рамках, живот сжало… как иногда случалось, я расслабился и не сдержался. Расскажи, каким образом пища проталкивается дальше. Мускулы кишечника сокращаются, сжимаясь и разжимаясь. Тем самым они толкают пищу вперёд и опорожняют кишечник. Задница усвоила сегодняшний урок на пять с плюсом. Опорожнилась как по писаному. Я зажмурился в темноте. Из меня лило. Если б я мог выбирать сам, то предпочёл бы умереть. Пижама прилипла к ляжкам. Это дело было тёплое и мягкое. Уму непостижимо. Фред проснулся. Я слышал его глаза. И лежал не дыша. Сколько может пролежать так? И сколько в мире швейных машинок? А ножниц? Тень Фреда беспокойно заворочалась. — Барнум, и что ты теперь натворил? — Ничего. — Ничего? Ты ничего не натворил, да? — Честное слово, Фред. Спи. — Если я пролежу достаточно долго, всё пройдёт, всё в жизни — вопрос времени, кто может вытерпеть столько, сколько нужно, тот и выходит победителем, если не помирает со скуки до победы; эта мысль почти утешила меня, я лежу, время идёт, секунды работают на меня, как ходики от Арнесена, а если я долежусь до смерти, то выдвину ящичек, полный туалетной бумаги, и секунды подотрут за мной. Решено. Больше я с кровати не встану. Останусь здесь валяться, и кровать превратится в мою могилу. Фред зажёг лампу и посмотрел на меня. — Нет, не может быть, — сказал он. — Чего? — Не может быть, — повторил он. Это дело капало на пол, жидкое, коричневое, я чувствовал себя выгребной ямой, сливной канавой, толчком, который забыли спустить, и я сдался, куда мне было деваться? — Помоги, — прошептал я. — Фред, помоги мне. — Фред стоял, зажав нос руками. Потом открыл окно, подошёл к моей кровати. Замер и долго буравил меня глазами. — Ну и что нам с этим делать, а? — Я только качнул головой, едва, для меня всё было едино. — Не знаю. Фред, помогай. — Он надолго задумался. Даже холодный воздух из окна не разгонял вони, шедшей от меня. — Позвать мутер? — Лучше не надо, — выдохнул я. — Или твоего отца? — Фред заржал раньше, чем я успел ответить. — Ах да, чёрт побери, его же дома нет. Барнум, где твой папаша? Где человек с бриолином? — Не знаю, — ответил я по-прежнему шёпотом. — На работе, наверно. — Ясное дело. Он, конечно, на работе. А где же мой-то отец? Может, его позовём? — Не знаю, — прошептал я. — Чего не знаешь? — Где твой отец. — Фред улыбнулся. — Ошибочка, Барнум. Ты не знаешь, кто мой отец Если не знаешь, как же я его позову? — Я промолчал. В конце концов Фред нагнулся ко мне: — Ладно, сами уберём. — Как? — спросил я осторожно. Фред тяжело вздохнул и отошёл к окну. — Дерьмо выкинем, бельё поменяем. Могу и тебя выкинуть заодно. — Думаешь, мама не заметит? — Что я тебя выкинул? Да она мне спасибо скажет, Барнум. — Фред, ну не говори так. — Ты такая мелочовка, что всё одно тебя никто не замечает. Ну и выкину тебя. Скажу, в слив затянуло. — Наверно, в этом месте я снова захлюпал носом. Фред подошёл поближе. — У тебя есть идея получше, да? — Идеи получше у меня не было. Я поднялся на ноги, медленно, как паралитик. Из-под пижамы потекла коричневая морилка. Фред смотрел на меня во все глаза. Этого зрелища он не забудет до конца своих дней. Потом он вышел, бесшумно прикрыв дверь. Никто не умел двигаться так бесшумно, как Фред. Я стоял у кровати. Не зная, вернётся ли он. Вполне в его духе: оставить меня стоять по уши в собственном дерьме. Я озяб. Но не плакал. Фред вернулся. Принёс чистое постельное бельё и здоровый пук серой обёрточной бумаги. Вопросов я больше не задавал. Уточнять ничего не хотел. Пусть поступает, как знает. Он стянул пододеяльник и простыню, сложил их и завернул в бумагу. Потом повернулся ко мне: — Снимай пижаму. — Я снял пижаму. И остался стоять голым. Было немного холодно. Фред смерил меня взглядом и улыбнулся: — Можно я спрошу тебя кое о чём? — Я кивнул. — А каково это, быть таким чертовски маленьким? — Я опустил глаза. Кожа сплошь покрылась мурашками, под коричневой морилкой всё чесалось и жгло. И у меня сорвались с языка слова, которые я не думал никогда говорить вслух. — Немного одиноко, — ответил я. Фред вскинул голову и посмотрел на меня, глаза в глаза, продолжалось это недолго, секунду или полсекунды, внезапный порыв, он был поражён не меньше моего и, возможно, почувствовал что-то знакомое, родное, уловил в моих глазах тень своей мрачности и почувствовал, что мы всерьёз братья. — Потанцуем, Барнум? — Фред положил руку мне на плечо. Оно опустилось. Фред засмеялся, тихо-тихо, едва слышно, у самого моего лица, стремительным движением убрал руку, увязал узел с бельём, взял его под мышку и выскользнул из комнаты. Вроде бы его быстрые шаги прошелестели вниз по чёрной лестнице. Я крадучись пробрался в ванную и, стараясь не шуметь, отмылся под душем. Коричневая взвесь забила слив и скопилась в устье, меня замутило, затрясло от страха, я стал втаптывать коричневую жижу внутрь, в сток, наконец она просочилась внутрь и ушла вниз, в трубы, в клоаку под городским чревом, а оттуда вытекла во фьорд в районе набережной Фреда Ульсена, где по брюхо в вонючем месиве стоят, лоснятся жирные чистики. Я прислушался. Всё спит. Ни звука, только журчание сливающейся воды. Из шкафчика над ванной достал тальк. И запорошил себя всего, сухой снежный шторм, а потом надушил пузо, ляжки и горло. Никто ничего не услышал. Бездонное сонное царство. Посреди чужих снов я мог делать, что пожелаю. Казалось, я просто пригрезился спящим. Я повернулся к зеркалу и увидел своё бескровное лицо, оно едва попало в зеркало, кудри опали, как надломленные спирали. Значит, я не сон, видения в зеркале не отражаются, это давно известно. Чистой пижамы я в ванной не нашёл, зато в ящике лежали мамины трусы. Я взял одни. Хотя мама и худышка, трусы оказались мне непомерно широки — я мог натянуть их до подмышек, — и такие мягкие и нежные на теле, как будто на мне и не было ничего. В таком виде: в маминых трусах, убелённый тальком и политый духами № 4711, я прошмыгнул назад в комнату. Постелил чистое бельё и лёг. Стал прикидывать, удастся ли назавтра заболеть. До завтра осталось несколько часов всего. Уже начало мало-помалу светать. Можно, к примеру, отрезать себе палец Фредовым ножом. Это у нас в роду. Вот у отца с пальцами просто беда, ибо то, что осталось от большого пальца на левой руке, правильнее назвать пеньком искорёженного мяса. Короче, я мог бы отчикнуть мизинец. Всё равно пользуюсь им редко. Он сам по себе лишний, ясно понял я, обдумав всё хорошенько и не вспомнив ни одного дела, которое нельзя сделать без мизинца. Кстати, о ноже — куда Фред запропастился? Я снова вылез из кровати и подошёл к открытому окну. Стоя там в маминых трусах, я испытывал странное, загадочное почти ощущение, будто мне подменили тело, у меня даже засосало под ложечкой, не заныло, как обычно, а скрутило мрачно, подрагивая. Пришлось упереться в оконную раму. Может, Фред стирает в подвале простыню и пододеяльник? Если я ещё постою здесь, то простуда обеспечена. А если повезёт, то и воспаление лёгких схлопочу. «А о чём бывают у людей сны?» — подумал я вдруг. И снюсь ли я кому-нибудь? Наверняка Фред пошёл выкинуть всю пакость на помойку. Я закрыл окно и надел Фредов халат, он вонял молью и потом и волочился по полу. Теперь я походил на боксёра, выставленного не в том весе. Муха в халате супертяжа. Я пробрался в гостиную. Скользил крадучись, как Фред, известный мастер скитаться и красться. На обеденном столе стояла мамина швейная машинка. На спинке стула висели старые брюки Фреда. Они были подшиты. И походили на шорты, серые шорты со стрелкой. Я подсунул мизинец под иглу. Если начать шить, палец раздерёт в клочья. Тут рядом возникла мама. Я не слышал её шагов. И рывком убрал руку за спину. Мама улыбнулась и туго запахнула ночную рубашку. — Волнуешься? — спросила она. Я отвернулся. — Не спится? — Встал в туалет. — Барнум, тут не из-за чего переживать. — А я и не переживаю. Волнуюсь немного. — Ещё бы. Хочешь померить брюки?