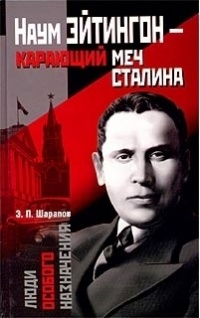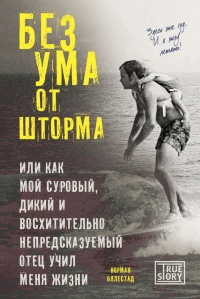Книга Последние капли вина - Мэри Рено
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– А я и собирался заплатить, - ответил я и положил на стол заранее приготовленные монеты. - За человека его возраста - которого ты обнаружил бы сегодня утром в петле, если бы не я, - полагаю, тридцати драхм достаточно.
Он уставился на серебро, потом заорал:
– Ты еще смеешь предлагать мне мои же собственные деньги?! Все, больше ты не будешь разыгрывать здесь хозяина!
– Эти деньги подарил мне Город за победу в беге на Истмийских Играх. Можешь назвать этот случай подарком богам.
Он застыл на миг, потом хлопнул по столу ладонью; монеты рассыпались и со звоном покатились по плиткам пола. Мы стояли, не обращая на них внимания, и смотрели друг другу в глаза.
Он втянул в себя воздух; глаза у него были такие, что я подумал: он собирается поднять на меня руку или даже проклясть, - казалось, он совершенно вышел из себя. Но вместо того им овладело спокойствие. В тишине этой мне чудилось, что страх протянул руку и схватил меня за волосы; но лицо страха было спрятано.
Он проговорил:
– Прежде чем ты достиг возраста, твой двоюродный дед Стримон предлагал твоей мачехе защиту своего дома. Почему ты воспротивился этому?
Никогда прежде он не называл ее моей мачехой. От этого слова меня пробил озноб без всякой разумной причины; наверное, я даже побледнел - я видел, как глаза его вперились мне в лицо. Но затем, припомнив, от какого возвращения домой избавил его, я разозлился и сказал:
– Потому что считал - слишком рано примиряться с мыслью о твоей смерти.
Я собирался продолжать, но не успел рта раскрыть, как он, словно бешеный, рванулся ко мне головой вперед и закричал, брызгая слюной:
– Слишком рано! Это вы примирились, оба, ты и она, слишком рано!
Я смотрел на него, словно оглушенный, его подозрение ломилось в двери моего разума, а душа моя старалась удержать их закрытыми. И в этой предгрозовой тишине вдруг послышался какой-то звук из-под стола. Отец резко повернулся и наклонился. Раздался громкий крик, и он вытащил оттуда маленькую Хариту. Должно быть, она играла на полу, когда он вошел, и спряталась от него под стол. Он начал трясти ее и спрашивать, что она здесь подслушивает, - словно она могла хоть слово понять из всего сказанного. Перепуганная насмерть, она забилась у него в руках и, заметив меня, завизжала: "Лала! Лала!" - и протянула ко мне ручки.
– Не надо, отец, - сказал я. - Ты ее напугал, отпусти девочку.
И вдруг он швырнул ее так, что она упала мне под ноги. Я поднял малышку и попытался успокоить, а она плакала и вопила.
– Так забирай же ее, - проговорил он, - раз ты предъявляешь на нее права!
Девочка плакала мне в ухо, я почти ничего не слышал - и не мог поверить, что правильно расслышал его слова. Он шагнул вперед, схватил нас двоих за волосы и сблизил наши лица; губы его оттянулись, обнажив стиснутые зубы - так скалятся собаки.
– Она слишком мала для трехлетнего ребенка, - процедил он.
Я видел зло в мире и знал ужас, как любой человек, живущий в подобные времена. Но ничто из пережитого прежде не могло сравниться с этим мигом. С тех пор голова Горгоны никогда уже не казалась мне детской сказкой. Я чувствовал, как кровь заливает мне сердце, как холодеют руки и ноги. Казалось, голос безумия обратился ко мне, говоря: "Уничтожь его, и все исчезнет!". Не могу сказать, какое злодеяние я бы сотворил, если бы не сестренка. Словно бог ей подсказал, она не позволила мне забыть о ней вжималась мокрым личиком мне в шею и цеплялась за волосы. Я погладил ее рукой по спине, чтобы успокоить, и немного пришел в себя.
– Отец, - проговорил я, - ты перенес много бедствий; я думаю, ты болен. Тебе следует отдохнуть, так что я тебя покину.
Я вышел во двор с Харитой на руках и остановился, глядя перед собой. Мне казалось, что если не двигаться, то я могу стать таким, как камень, и ничего не знать. Но мне не был дозволен подобный сон. Девочка нарушила его, заговорив мне в ухо. Она говорила, что хочет к маме.
Я наклонился и поставил ее на землю. Окликнул Кибиллу, проходившую мимо, велел ей отвести ребенка в дом и найти мать. Ибо она имела право на то, что ей принадлежит. А потом я вышел на улицу.
Поначалу у меня была лишь одна ясная мысль: найти место, где можно спрятаться, пересидеть и прийти в себя. Но по мере того как я шел через Город, тщетно разыскивая такое место, само движение становилось все больше и больше необходимым мне; я шел все быстрее и быстрее, я был подобен человеку, пытающемуся убежать от собственной тени. Вскоре, пройдя через Ахарнские ворота, я оказался вне Города. А затем, испытывая все большую необходимость в движении, подоткнул подол гиматия и бросился бегом.
Я бежал по плоской равнине между Городом и горами Парнеф. Я продвигался не очень быстро, ибо внутреннее ощущение подсказывало, что убежать мне нужно далеко, и добытые упражнением навыки действовали сами собой, без участия мысли. Высокая стена Парнефа поднялась передо мной, блекло-бурая от летней засухи; выгоревшая трава, потемневшие кусты и серые скалы четко проступали на фоне твердого темно-сапфирового неба. Я достиг уже предгорий и бежал по расстилающимся под оливами полям, где маки обрызгали кровью щетину ячменя. Под конец, услышав ручеек внизу, в ущелье, я почувствовал жажду и спустился к скалам - напиться. Здесь была тень, столь приятная после зноя на дороге, и вода, прохладная и свежая; я задержался у ручья, хотя мне следовало бы торопиться дальше. К тому времени я понял уже, от чего бежал, - от безумия, ибо здесь оно настигло меня.
И вот в какую форму вылилось мое безумие: что в грехе, в котором он меня обвинил, я и в самом деле повинен, по крайней мере в душе. Охваченный ужасом от этой мысли, я вскарабкался вверх по скалам от ручья и побежал через горы, растеряв всякий рассудок, и мне стало казаться, что и телесно я тоже совершил этот грех. Иногда разум мой частично поправлял себя, и я отбрасывал эту последнюю безумную мысль, но ни разу не вернул себе рассудок полностью. Кто смог бы усомниться, что причиной тому - мое неблагочестие, которое я проявил, уничтожив его письмо и не выполнив его приказа? Ибо я не мог в тот миг понять (как понял бы любой человек в здравом уме), что он, выйдя из себя, дошел до крайней нелепости, каковую и сам уже должен был уразуметь; что добрая дюжина наших знакомых могла засвидетельствовать время рождения Хариты; что сам Стримон, который при всей своей злонамеренности все же не был негодяем, должен вступиться за меня хотя бы в этом. Но я ничего не понимал, я лишь чувствовал себя обвиненным перед небом и людьми.
Итак, я торопился дальше, все глубже и все выше в горы, в дикую местность выше полей и хуторов; я карабкался по скалам и бежал там, где можно было бежать. Ноги мои уже были ободраны вереском и кустами, ступни избиты о камни. Однажды меня заметил отряд конных спартанцев, но они решили, что я - беглый раб, направляющийся в Мегару, и проехали мимо.
Наконец я достиг высоких мест, где ничего не увидишь, кроме сухих каменных вершин и глубоких ущелий, да еще отдаленных скал, колышущихся от зноя. Голода я не ощущал. Иногда мною овладевала жажда, но я не хотел задержаться и утолить ее, ибо знал, что за мной погоня; я начал озираться в поисках того, что преследует меня, надеясь захватить его врасплох. Опаленные солнцем горы приобрели цвет волчьей шкуры, и раз мне даже показалось, что я заметил пробирающегося волка. Но это была всего лишь игра ветра в кустах; нет, не волки шли по моему следу…