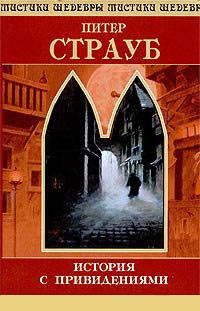Книга Ангелика - Артур Филлипс
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— В детстве я стоял там, где ты стоишь сейчас, — сказал он Констанс, наблюдавшей с порога за тем, как он вытирает кровь со щеки, — и наблюдал за тем, как его бреют. Лакей или даже моя гувернантка.
— Другие мужчины тоже сбревают в этом году бороды? Не представляю, как ты теперь. Освоиться, я полагаю, будет затруднительно?
Она беспокойно усомнилась даже в этом, хотя его действия затрагивают лишь его одного.
Он довел дело до конца и одевался, когда пришла Ангелика, плутавшая в поисках матери.
— Доброе утро, дитя, — сказал он. — Понравился тебе мой подарок?
— Какой подарок? — спросила она, впервые его замечая.
Он рассмеялся ее очевидному замешательству при виде мужчины, что говорил с нею голосом отца.
— Это ты? Что стало с твоей головой?
Он принял ее в свои объятия, позволив дотронуться до щеки и ей, и ее кукле.
— Принцесса очень довольна, — пропела Ангелика. — Но где твое лицо?
— Это и есть мое лицо. Исчезли только волосы. Они росли на лице не всегда. Когда я был моложе, они не росли.
— Значит, ты теперь моложе?
— Нет, я старею. Мы движемся лишь в одну сторону. Переменяемся и стареем.
— Я тоже переменюсь?
— Разумеется.
Она коснулась крови на его щеке и задумчиво растерла ее между пальчиков.
— Когда я постарею, то буду выглядеть по-другому?
— Разумеется.
— Ты знаешь, как я буду выглядеть?
— Хочешь знать, в самом деле? Хорошо же, взгляни на свою мать. Вероятно, она отображает твою будущую красоту.
— Я буду выглядеть как мамочка?
— Полагаю, это вполне вероятно. Тебе это понравится?
— А тебе это нравится?
— Пришел срок твоему отцу тебя покинуть; оставь его, Ангелика, — вмешалась Констанс, входя под надуманным предлогом и спеша поставить точку на любом приятном взаимодействии отца и ребенка.
— Сколько тебе лет, девочка моя?
— Мне четыре, — немедленно ответила она, выставив в доказательство пять широко расставленных пальчиков.
Он обернулся к Констанс, коя холила порез на его щеке:
— Ты помнишь себя в таком возрасте?
— Едва ли. Учитывая тяготы тех времен, я о них размышляю, представь себе, весьма редко.
— Мне следует считать, что ты была прекраснейшим из детей. Копия женщины, коей ты стала.
Она смела ребенка с его коленей и удалилась.
Он примечал себя в случайном зеркальном стекле и мимолетном окне, включая таковое в лавке Пендлтона: лицо отца зависало над кожаными портфелями и украшало на геральдический манер латунные штемпели. «Я увидал ее в окне, Джо, и цветок в ее волосах». Здесь же Джозеф в свой черед увидел в окне свою жену, и лишь теперь он уловил аналогию. В Лабиринте он радушно принял отклики сослуживцев с примесями изумления и веселья, восторга, издевки, брюзгливой проницательности с брадобрейской моралью, выводимой и гладко выбритыми («Я всегда говорил, что мужчине с бородой есть что скрывать»), и бородачами («Столь крутая перемена есть знак совести, коей настоятельно потребно внимание»), Гарри едва поднял бровь:
— Сегодня с тобой что-то не так. Не пойму что.
Завоевать любовь первой Ангелики надолго было непросто. Он вспоминал, как лежал раздетый в ее постели. Он был болен, и Ангелика заботилась о всякой его потребности, о еде и лекарствах, мыла его. Он вспоминал, как сидел в постели, уже выздоравливая, и обожал няню, коя щекотала перышком овальную вмятину на закруглении его носа, столь дурацкого носа. (Круглый-прекруглый кончик носа, скошенный под малым углом, никуда не делся, по-прежнему добавляя хозяину глуповатого простодушия.)
— Мой большой, сильный, здоровый мальчик, — говорила она, целуя его. — Мой юный английский красавец.
Однако спустя часы или дни она наказывала его за прегрешение, кое он совершил, того не ведая, и приговаривала:
— Я не разговариваю с такими мальчиками, как ты.
Его отец отправился в недельную поездку, и Ангелика не сказала Джозефу ни слова в продолжение трех бесконечных дней, презрев все его мольбы, беснования и слезы.
Отцовское дело — ввоз чая из-за границы — требовало частых отлучек, а атрибуты сего дела — известия о кораблях, декорированные именами восточных портов чемоданы — подразумевали великое приключение. Джозеф с удовольствием пошел бы по стопам отца.
— Ты будешь доктором, — настаивал отец. — Этого желала твоя мать, а она отдала за тебя жизнь.
Она была дочерью и сестрой медиков, но Джозеф не был знаком ни с кем из них, ибо они не торопились с визитами.
Даже когда Джозеф изыскивал в себе мужество поднять больную тему, Ангелика упрекала его: «С какой стати ты желаешь быть на него похожим?» Вопрос оказался риторическим, ибо отцовское дело пошатнулось, когда Джозеф приближался к совершеннолетию, а затем и вовсе расстроилось параллельно со здоровьем отца. Из дома пропадали предметы обстановки и роскоши, слуги исчезали, пока не осталась одна лишь Ангелика, коя заботилась равно об отце и сыне, а между тем Карло Бартоне либо отбывал с цветком в пиджаке, намереваясь блудить по паркам в поисках служанок и прачек, либо возлежал дома, не в силах подняться и даже разговаривать, придавлен грузом скорби куда более тяжким, нежели можно было ожидать ввиду одного только краха его состояния.
Джозеф только-только приступил к изучению медицины, когда злоключения довели Карло почти до могилы и парад стряпчих, заимодавцев и разносчиков скверных вестей беспрерывно обивал их порог. Столкнувшись с экономией, каковая делалась все строже, и предполагая, что отец в итоге потеряет дом, Джозеф оставил медицинский факультет и применил свои ограниченные врачебные познания, дабы завербоваться на госпитальную службу. Отец не мог ни помочь ему, ни воспрепятствовать, и настал день, когда сын явился прощаться. Отец присел в постели.
— Хорошо, что ты пришел, Джо. Когда ты победительно вернешься в Англию завоевателем, все прояснится.
— Меня не будет некоторое время, папа.
— Да, вполне понимаю. — Карло Бартоне сидел, смаргивая утреннее солнце. — Я оставлю наше фортепьяно. Дому, я полагаю, тоже ничто не грозит, — беспечно добавил он. — Я его завещал, так что аресту он не подлежит.
— Кому? У меня его с легкостью отнимут, разве нет?
— Да.
— Кому же тогда?
— Твоей матери. — Вот, значит, до какой степени размягчился его ум. — Где она, к слову говоря? Я желаю супу. — Эти последние слова он произнес на итальянском, раздражившись и натянув одеяло на небритый подбородок. — Ты уже распрощался с нею? Иди же, что ты застыл?
То были последние реплики, коими Джозеф обменялся с отцом, столь очевидно спятившим с ума вследствие невзгод и возраста.