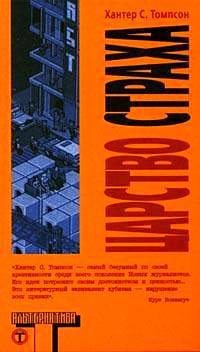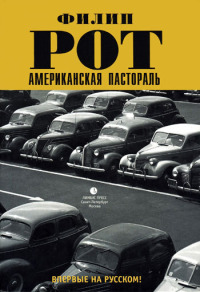Книга Заговор против Америки - Филип Рот
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— А ты сама!
И я, подхватив учебники, помчался в школу, а вернувшись домой на ланч в полдень, извлек из стенного шкафа зеленую рубашку, которую всегда ненавидел, и коричневые вельветовые брюки, которые на мне плохо сидели, и отнес их в квартиру на первом этаже Селдону. Он сидел на кухне, уплетая сэндвич, еще с утра приготовленный ему матерью, и играл в шахматы сам с собой.
— Вот, — сказал я, вывалив вещи прямо на стол. — Держи. Дарю. — И тут же добавил, заранее наплевав на неизбежные судьбоносные последствия для нас обоих. — Только отвяжись от меня, только не таскайся за мной повсюду!
Когда Сэнди, Селдона и меня привезли домой после двойного сеанса, на ужин нас ожидали сэндвичи из деликатесной лавки. Взрослые, ужинавшие в гостиной, разъехались по окончании тайной вечери; в гостях у нас оставалась лишь миссис Вишнев: она сидела за кухонным столом, стиснув кулаки, — все еще не утратившая боевого духа, все еще готовая изо дня в день по двадцать четыре часа в сутки сражаться со всем, что представляет угрозу для нее и для ее оставшегося без отца сына. Она осталась на кухне с нами, мальчиками, и, пока мы ели, слушая комедийный вечерний ситком по радио, не спускала глаз с Селдона, глядя на него, как какая-нибудь хищница, почуяв запах опасности, — на своего новорожденного тигренка. Миссис Вишнев перемыла и высушила всю посуду; моя мать меж тем пылесосила в гостиной ковер, а отец выносил по мере появления и накопления мусор; одолженную у миссис Вишнев скамейку он уже вернул, поставив ее в стенной шкаф, в котором удавился мистер Вишнев. Несмотря на то, что все окна были открыты, пепел и окурки спущены в унитаз, а стеклянные пепельницы тщательно вымыты и возвращены в «горку» (из которой сегодня вечером не было извлечено ни одной бутылки, да и попросить хотя бы о капле спиртного никто из этих практичных представителей первого поколения уроженцев Америки даже не подумал бы), в квартире отчаянно пахло табаком.
На какое-то мгновение все в нашей общей жизни успокоилось; мы, как выяснилось, жили на прежнем месте, и привычное исполнение повседневных ритуалов приносило такое облегчение, что у мальчугана вроде меня могло возникнуть обманчивое ощущение, будто так оно и будет всегда, потому что никто нас не преследует и преследовать не собирается. Мы слушали по радио свою любимую передачу, мы получили сэндвичи с мясом на ужин и сочный кофейный торт на десерт, впереди нас ожидала пятидневка в начальной школе, да и двойной киносеанс еще не успел выветриться из памяти. Но поскольку нам было не известно, как именно наши родители решили распорядиться общим будущим (может быть, Шепси Тиршвелл все-таки уговорил их эмигрировать в Канаду, а может, дядя Монро придумал что-нибудь позволяющее отказаться от навязываемого перевода в глубинку — но отказаться так, чтобы никто не вылетел с работы, а может, взвесив все «за» и «против» хитроумного правительственного распоряжения, они не нашли ничего другого, кроме как на трезвую голову — а головы у них у всех были трезвые — смириться с существенным поражением в гражданских правах и повести себя соответственно), — в разразившемся воскресным вечером скандале проявилось и кое-что необычное.
Жадно накинувшись на сэндвич, Селдон перемазался горчицей — и его мать, к моему удивлению, потянулась к нему с бумажной салфеткой. Тот факт, что он позволил ей вытереть ему щеки, изумил меня еще больше. «А все дело в том, что у него нет отца», — подумал я, — и хотя такая мысль теперь приходила мне в голову всякий раз, когда что-нибудь в Селдоне меня раздражало, на сей раз, похоже, я оказался прав. А еще я подумал: «Так оно будет и в Кентукки. Семья Ротов против всего остального мира — и Селдон с матерью ужинают у нас каждый вечер».
Голос нашего главного протестанта Уолтера Уинчелла раздался ровно в девять. Уже несколько воскресных вечеров подряд все только и ждали того, как Уинчелл обрушится на программу «Гомстед-42», а поскольку он все медлил и медлил, мой отец решил поторопить личным письмом единственного, если не считать Рузвельта, человека, которого он считал последней надеждой Америки. Это эксперимент, мистер Уинчелл. Это эксперимент сродни гитлеровским. Нацистские преступники тоже начинали с какой-нибудь малости — и если она сходила им с рук, если никто из людей Вашего масштаба не принимался бить в колокол… До этого места он дописал, но так и не решился перечислить ожидающие нас в данном случае ужасы, потому что моя мать убедила его, что письмо попадет прямехонько в ФБР. Пошлешь его Уолтеру Уинчеллу, рассудила она, но до адресата оно никогда не дойдет: почтовики, увидев адрес на конверте, перешлют его в ФБР, а эфбээровцы заведут досье на Германа Рота и поместят его в картотеку бок о бок с досье, уже заведенным на другого Рота — Элвина.
— Нет, — возразил отец. — Не верю. Почта США на такое не пойдет, — но здравый смысл, присущий моей матери, тут же нокаутировал его и так-то едва держащуюся на ногах веру в общественные устои.
— Ты вот сидишь и пишешь Уинчеллу, — сказала она. — Ты втолковываешь ему, что эти люди, раз начав — и преисполнившись ощущением собственной безнаказанности, — ни перед чем не остановятся. И тут же пытаешься внушить мне, что почта им не по зубам. Пусть уж лучше Уолтеру Уинчеллу напишет кто-нибудь другой. А наших сыновей и без того допрашивало ФБР. Оно уже следит за нами с высоты, как ястреб, — из-за Элвина.
— Но как раз поэтому я ему и пишу! Что мне еще остается делать? Что я могу сделать? Если тебе известно, что, будь добра, вразуми. Не могу же я сидеть сложа руки — и ждать, пока не случится самое худшее.
Его бессильная злоба показалась ей благоприятной почвой для дальнейшего наступления, и — не из бессердечия, а от отчаяния — она усилила натиск.
— Шепси вот не сидит сложа руки и не ждет, пока не случится самое худшее, но и писем он не пишет тоже.
— Нет! — воскликнул отец. — Хватит про Канаду! — Как будто Канадой называлась страшная болезнь, незримо овладевающая всеми кругом. — Я не хочу даже слышать этого. Канада, — и в его голосе послышались твердые нотки, — это не выход.
— Это единственный выход, — умоляюще сказала мать.
— Я никуда не убегу! — неожиданно страшным голосом заорал отец. — Это наша страна!
— Нет, — возразила мать. — Больше не наша. Это страна Линдберга. Это страна гоев. Это их страна.
Так она сказала, и ее срывающийся голос, и кошмарный смысл сказанного, и его безжалостная реальность заставили моего отца — в полном расцвете сил: умного, здорового и бесстрашного, каким и должен быть сорокаоднолетний мужчина, — с парализующей ясностью увидеть: он, обладая титанической энергией, расходуемой исключительно во благо семьи, способен уберечь ее от несчастий ничуть не в большей мере, чем повесившийся в стенном шкафу сосед по дому.
На взгляд Сэнди — все еще безмолвно бесящегося из-за родительской несправедливости, лишившей его подросткового величия, — оба они говорили сплошные глупости, и, наедине со мной, он не гнушался говорить об отце с матерью в терминах, подцепленных у тети Эвелин. «Евреи из гетто, — объяснял он мне. — Трусливые евреи из гетто, одержимые самовнушенной манией преследования». Находясь дома, он лишь злобно хмыкал, услышав их, услышав сказанное ими буквально по любому поводу, а потом злобно хмыкал в ответ на мои полудетские сомнения в подлинных причинах его ожесточения. Похоже, ему и впрямь начинало нравиться отвечать злобным хмыканьем на любые слова, — и, возможно, в нормальное время отец с матерью постарались бы как-нибудь пресечь это — или семейным объяснением, или, напротив, повышенной деликатностью с оглядкой на трудности переходного возраста, — но в 1942 году в нашей семье воцарился самый настоящий садомазохизм: им нравилось провоцировать его на злобное хмыканье, а ему нравилось злобно хмыкать.