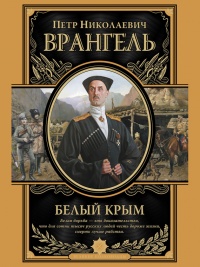Книга Из Египта. Мемуары - Андре Асиман
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Я заглянул в окно часовенки и увидел комнату, похожую на школьный кабинет. На стене висели карты, детские рисунки, иконы и портрет Перикла. Я прошел по узкому коридору и очутился в мастерской, которую, вероятно, устроили в старой конюшне. За мастерской обнаружился очередной клочок земли, поросший по краям высоченными подсолнухами: они обратили ко мне дьявольские глаза и следили за каждым моим осторожным шагом. Меня вдруг охватило неприятное чувство, будто мне смотрят в спину. Я обернулся.
И увидел их. У стены конюшни, точно два гигантских перевернутых зонта, с обнаженными ребрами и блестящими гибкими желтыми бамбуковыми килями, выше меня в два раза – еще выше, чем я их себе представлял, поскольку, как близко я ни подходил, все равно смотрел издали, – стояли Парал с Саламинией, и возле каждого змея на полу мастерской свернулся кольцами длиннющий хвост, точно гигантские кишки, умещавшиеся в крошечной утробе. Воздушные змеи казались совершенно обнаженными, словно незаконченные шлюпки, беззащитные перед моим пытливым взором. Строители сняли прошлогодние целлофановые листы, чтобы приклеить новые. Я подошел ближе, потрогал ребра змеев, однако же осторожно, памятуя о том, что бамбук режется хуже стекла. И лишь тогда обнаружил, что змеи утыканы шипами, которые разрывали соперников на части. Это были не старые бритвенные лезвия, которые мы крепили к своим, а заостренные отростки бамбукового каркаса – разница, объяснил мне впоследствии Момо, как между вставной челюстью старой дамы и клыками сильного молодого волка.
Момо никогда мне этого не простит. А всего-то и нужно было взять перочинный ножик и порезать бамбук. И тогда в то лето мы царили бы в небе. На миг я почувствовал себя финикийским шпионом, который пробрался на безлюдную греческую верфь, полный решимости причинить врагу максимальный ущерб, и оробел, завидев «Парал» и «Саламинию», гордость афинского флота, стоящие в доках в ожидании мелкого ремонта.
Я вышел из мастерской и услышал, что меня зовет отец.
Обратно мы ехали молча; мне не давала покоя мысль о том, как раздуется от важности мадам Мари, когда узнает, что мы хотим перейти в ее веру. Синьор Уго рассказывал, что каждое воскресенье он вынужден ходить в церковь. Мадам Мари будет на седьмом небе от счастья.
Однако же в тот вечер, после того как мы отвезли синьора Уго в пансион и подъехали к нашему дому в Клеопатре, отец, прежде чем выпустить меня из машины, посмотрел на меня и сказал:
– Не бойся, мы не станем связываться с этим греческим священником. Я как-то не готов каждую неделю на него любоваться. К тому же я хочу все обдумать, – пояснил он, будто решил заняться этим сразу же, как только мы попрощаемся, а потом добавил, словно его только что осенило, – дескать, возможно, лучше стать протестантами. – В любом случае это не к спеху, – заключил отец.
Я захлопнул дверь и проводил взглядом его машину, понимая, что до завтрака мы не увидимся.
* * *
Как и прежде, Пасха и Песах пришлись на Рамадан. Однако в этом году в доме царило уныние, Абду и мадам Мари больше не препирались, и никто не выговаривал мне за неумение вести себя за столом. После нашего скромного семейного седера в Спортинге с прабабкой приключилось несчастье. Проснувшись среди ночи, она не обнаружила в ящике прикроватной тумбочки любимого имбирного печенья: бабушка Эльза его убрала, думая, что мать не захочет на Песах есть печенье из дрожжевого теста. Но старушка начисто забыла о запрете на хамец и, не найдя на привычном месте любимого угощения, встала, отправилась на кухню, по пути запнулась о старую табуретку, упала и расшибла голову в кровь. Дедушка Нессим, бабушка Эльза и моя бабка пытались остановить кровотечение: кто-то из них присыпал рану молотым кофе. Вызвали доктора Закура, нового семейного врача, он сделал что мог, но старушка так и не пришла в сознание. В скорую даже не звонили.
Наутро дедушка Нессим открыл стеклянную дверь прабабушкиной спальни, вышел к собравшимся и сообщил: «Она оставила нас». Усопшую завернули в саван и через несколько часов похоронили. Мадам Мари посетовала – дескать, у христиан не так, они хоть дают время проститься с покойным. Потом вспомнила, что так и не вернула агузе, то есть старухе, три фунта. Чтобы отвести от себя беду, мадам Мари немедленно отправилась в булочную, купила три сахарные булки и по дороге домой отдала первым встреченным нищим.
Дождливым днем мы сидели в маленькой гостиной. Никто не плакал, даже не вспоминал случаи из жизни умершей. Пришел Абду, отпросился до вечера; кто-то предложил пойти в кино, куда мы и отправились всемером, включая мадам Мари.
Три дня спустя мадам Мари отвезли в больницу и вырезали желчный пузырь. Вернулась она через несколько недель: за это время гувернантка, казалось, похудела в два раза, как-то постарела и жаловалась, что обе руки обметала экзема. Посмотрела, как я обедаю, спросила, как у меня дела в школе, огорчилась, что я теперь занимаюсь с мусульманами, как и советовал мосье аль-Малек, – и это вместо того, чтобы изучать нормальную религию.
– Ты у нас теперь мусульманин? – уточнила она.
Я покачал головой.
– А что же ты сказал, когда тебя спросили, зачем ты хочешь изучать Коран?
Я ответил, что сказал, мол, наша семья подумывает принять ислам. Когда я доел, мадам Мари не убрала мои тарелки, как бывало прежде. И не велела вымыть руки. И не усадила за домашнюю работу, и не попросила не ходить на кухню и не болтать со слугами. Пообещала как-нибудь снова взять меня с собой в храм святой Екатерины. Допила кофе, поблагодарила Абду и ушла.
* * *
Через неделю, после того как мадам Мари позвонила, извинилась и сообщила, что нашла работу полегче, на неполный день, в греческом доме престарелых, родители взяли мне гувернантку по имени Роксана, персиянку, которая училась в Испании на танцовщицу, но после череды неурядиц поселилась в Александрии – с любовником, британским журналистом, сотрудником одной из местных англоязычных газет. Молодая брюнетка была энергична, невероятно красива и, в отличие от мадам Мари, которая, пока я купался, отсиживалась в тени с прочими няньками, прыгала в море и плыла быстрее всех. Выйдя из воды, подбегала к нашему зонтику и укутывалась в полотенце практически с головы до пят, так что виднелась лишь часть лица да ноги в мурашках. Потом расчесывала длинные, крашенные хной волосы и закуривала сигарету. Кожа ее сияла на солнце, вечерами в Мандаре Роксана в темно-синем платье в белый горох сиживала на веранде с моими родителями, и от нее по-прежнему пахло кремом от загара; она ждала, пока за ней заедет ее Джоуи на «форде англии». Роксана мало что принимала всерьез, и все, что она говорила или слышала от меня, словно содержало в себе нечаянную остроту, которая ее забавляла; она заставляла меня поверить, будто бы я куда умнее, чем думал, – и это кружило мне голову, побуждало к откровенности, поскольку она понимала не только какой я, но и каким хочу стать.
Роксана нарушала все мыслимые и немыслимые табу: она опаздывала, уходила когда вздумается, однако ж ни с кем не ссорилась, вдобавок со своим неиссякаемым весельем и добрым расположением духа умудрялась уговорить меня сделать и съесть такое, чего я и вообразить не мог. Когда она бывала дома, я уже не околачивался на кухне; стоило ей сообщить мне, что брата ее зовут Дарий, а отца – Камбис, и я понял, что жизнь способна подняться над обыденностью и превратиться в легенду. По утрам Роксана приветствовала меня лукавой улыбкой – так, словно мы успели сообщить друг другу что-то такое, о чем поклялись никому больше не рассказывать. Вечерами мы вместе читали Плутарха. А на ночь она читала мне газели Хафиза – чтобы следующий день оказался удачным. Сперва она читала стихотворения по-персидски, объясняла смысл, потом приводила несколько надуманное, но неизменно счастливое толкование, целовала меня и желала спокойной ночи.