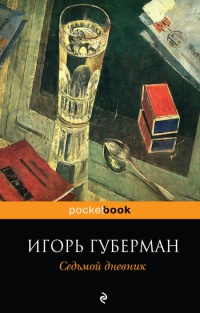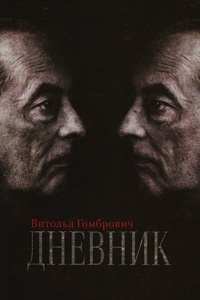Книга Но кто мы и откуда - Павел Финн
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Тогда дверь мне — с чемоданом — открыла Рита, ее мама, жена Отара, говорившая уже с легким грузинским акцентом, хотя до того, как встретиться с Отаром на факультете МГУ, жила в Сибири. Она сообщила мне, что Отар в городе вместе со своим другом и актером Гоги Харабадзе и, если я пойду не спеша по проспекту Плеханова, я их наверняка встречу где-нибудь возле пива. Что я и сделал.
И началась фантасмагория, в вихре которой два заведующих отделами ЦК компартии Грузии вселяли меня ночью в гостиницу “Тбилиси”, утверждая, что я второй секретарь ЦК ЛКСМ Молдавии. Но это было только начало. Вихрь забрасывал нас то в Гори, то на Мцхету к великому цветоводу Мамулашвили, о котором Отар снял кино, то в мастерскую художника Авто Варази, играющего Пиросмани в картине нашего друга Георгия Шенгелая, то на студию “Грузия-фильм”, где сам Отар, между прочим — параллельно с вихрем — монтировал “Листопад”.
И от всего этого, как ключевая фраза, навсегда осталась сентенция Отара, которую он, подняв вверх указательный палец, произнес рано утром в хашной, несколько раз заставляя официанта менять сорт и цвет чачи:
— Человек с похмелья должен быть капризен, мамочка моя!
Но интервью у Серго Закариадзе я все-таки взял. Оно у меня сохранилось в записной книжке.
И долго потом не был в Грузии.
1993 год, осень.
Отправляюсь членом жюри на фестиваль “Золотой орел” в Тбилиси. В жюри — Нея Зоркая, Ганс Шлегель… Председатель — Леван Закарейшвили, долго снимавший и снявший замечательную картину “Тбилиси, Тбилиси”. Мы познакомимся и станем друзьями. В 2006-м он предлагал мне писать для него сценарий. Я уж совсем было собрался в Тбилиси в сентябре, но в августе он умер. Ему было всего 53 года.
Домодедово. Никак не можем вылететь. Пока мы большой компанией слоняемся по аэропорту и пьем коньяк с Эльдаром Шенгелая, чартерный самолет, который должен прибыть за нами, занимается другим делом. В тот день все самолеты из Тбилиси были сняты со своих рейсов и улетели с добровольцами в Сухуми. Оттуда они возвращались с беженцами, с ранеными и мертвыми.
Но самолет за нами в конце концов все же прилетает. В Тбилиси на летном поле автоматчики. У выхода из аэропорта прелестные улыбающиеся фестивальные девушки, как стайка антилоп, окружают нас. Везут в гостиницу “Метехи” — над Авлабаром.
Монтаж: стою у Дома кино и смотрю, как идут по Руставели черные матери — несостоявшийся поход грузинских женщин — грузинских плакальщиц — в Сухуми.
Монтаж: тягостная ночь перед отлетом в гостинице. Одиночные выстрелы где-то за Авлабаром (“Всю ночь зурна звенит за Авлабаром…”) и всплеск женских рыдающих голосов. Сегодня сдан Сухуми.
Монтаж: мы уже в Москве. Четвертое октября 93-го. Ночь с Ириной и Сашей Филиппенко у Моссовета. На обратном пути — ему на Бронную, нам на Плющиху — на Никитском бульваре у ТАССа над нашими головами перестрелка снайперов.
На этом знакомство со снайперами не заканчивается. Следующей ночью выхожу гулять со своим маленьким и любопытным французским бульдогом по имени Гек, а по собачьему паспорту — Гекльберри Финн. Из темноты двора, возникнув как будто из ничего, из сути и плоти событий, на меня идет человек в пятнистой куртке, в руке у него автомат. Деваться мне некуда, собака не защитит, тянется на поводке с ним поцеловаться. Пятнистый говорит взволнованно:
— Мужик! Что с Руцким?
Утром узнаем, что из соседнего “круглого” дома, возвышающегося над Москвой-рекой напротив Киевского вокзала и, в общем, недалеко от Белого дома, сняли снайпера. Наверняка это и был мой ночной пятнистый знакомый.
Спасибо ему. Да, спасибо снайперу и спасибо женщинам на Руставели. Я их всех видел, и это значит, что я здесь был, здесь и в это время. Мое время.
“Предубеждение, будто политика всегда покрывает жизнь, — недоказуемая небылица публицистов. Но в годы вековых потрясений — это истина”.
В Абхазии последний раз я был тогда, когда она еще была Грузией. В кои-то веки выбрались с Ириной — в первый и последний раз — в Пицунду, в наш Дом творчества, намеренно не в сезон — в апреле. Кстати, говорят, что потом — во время войны — в нашем Доме был штаб Басаева. Вполне возможно.
Но тогда, в апреле 1986 года, до этой войны было еще далеко.
Кинематографистов почти не было. Дом был заселен шахтерами и почему-то журналистами районных газет из Дагестана, спустившимися с гор.
Аллея траурных кипарисов в Пицунде. Черные от солнца кипарисы на ярко-зеленом холме рядом с водонапорной башней, цыганская мелодия из будки звукозаписи, цветы в руках — горячеют глаза, охватывает щемящая сладость бытия, и кажется, что ничего больше на свете не надо…
Но почему я, почему мне, за что — мне?
Шахтеры необычайно оживились, когда в Доме неожиданно — для меня — появился Сережа Параджанов. Один за одним шахтеры и шахтерки повалили к нему за автографами. Сережа, уж на что был неколебимо убежден, что он гений всех времен и народов, и то был немножко удивлен этим энтузиазмом любви и почитания. Но подпись ставил на всем, что протягивали. Подпись была неразборчива, и шахтеры, возможно, так и не узнали, что он не актер Волонтир, чья знаменитость после “Цыгана”, конечно, легко побивала Параджанова.
Вот в чем вся фишка: жизнь интересна всегда, даже если она чудовищна. Особенно у нас, где по углам до поры до времени дремлют жареные петухи.
26 апреля известие о взрыве в Чернобыле прошло в Доме почти незамеченно. Ведь и вся наша жизнь происходит, в сущности, на фоне взрывов, их ядовитых дыханий и роковых отблесков. И только некий довольно странный и подозрительно доброжелательный господин, доктор каких-то загадочных наук, по его намекам — очень секретных, сказал мне за завтраком:
— Запомните этот день. Он изменит наш мир.
— Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка — Апокалипсис!
Апокалипсис шагает по планете!
Первой почувствует приближение финала Апокалипсиса, конечно, природа. Оскудеют моря и океаны, слой за слоем станет обнажаться земля, возвращаясь к своему прошлому, поднимутся старинные города и могильники. Всплывет на одном полюсе Атлантида, а на другом — Китеж-град…
Конечно же, Апокалипсис всегда понимался человеком слишком материалистически. Наводнения, землетрясения, взрывы, повышение температуры. А ведь все это — только еще намеки человечеству и проявления снисхождения и милости Бога к человеческой природе, не способной понять всю глубину постоянного символизма Апокалипсиса. Всю роковую глубину. На наших глазах испарения земного человеческого зла собираются в огромную тучу, чтобы взорваться страшной грозой, чтобы пролиться страшными дождями. А мы и в ус не дуем.
“Человечество… живуче, как кошка”.
Вперед, вперед под пиратским черным парусом навстречу Апокалипсису. Судьи Страшного суда уже затребовали из архивов все дела капитанов, матросов, пленников и рабов. Адвокаты и прокуроры на заседания Суда допущены не будут, они сами проходят по делу как обвиняемые.