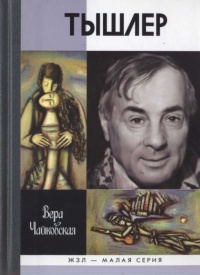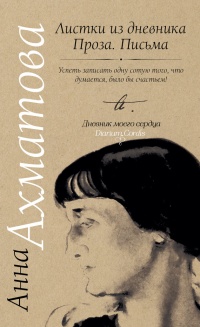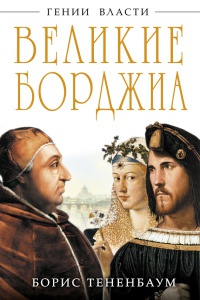Книга Лабас - Наталия Семенова
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
К семидесятилетию, несмотря на восторги поклонников и «зеленый свет» музеям, ни звания, ни тем более зал под выставку Лабас не получил. Но только те, кто не знал Александра Аркадьевича лично, могли наивно полагать, что он будет перебирать вырезки из газет и перечитывать книги отзывов пятилетней давности. В который раз нашего героя недооценили. Не случайно же бывший вхутемасовец Федор Семенов-Амурский написал в книге отзывов: «Ай да Лабас, ай да молодец: сам старик, а искусство его молодое!!» Лабас действительно не чувствовал своих лет, особенно когда к нему обращались «Шура», как в молодости. Трижды прав был Оскар Уайльд, сказав, что трагедия старости не в том, что тело стареет, а в том, что душа при этом остается молодой. «С трудом могу представить, насколько эти цифры не соответствуют моему чувству времени, ощущению реальности. Как много я бы мог еще сделать именно теперь, как это ни парадоксально», — писал Александр Аркадьевич в дневнике на пороге восьмидесятилетия.
«Характер творчества, как и судьба художника в искусстве, во многом определяется характером личности. Активность поведения часто решает прижизненную судьбу, а иногда и посмертную. У художников должны быть наследники, в самом прямом, житейском смысле слова. Картины умирают безвестные и одинокие, если о них не заботятся, если они не попадают в музеи или крупные коллекции. Картины еще более беззащитные, чем книги, ибо не поддаются тиражированию, а горят точно так же. Репродукции, даже самые качественные, — только подобие оригинала, да и многих ли художников того поколения, о коем я пишу, репродуцировали?.. „Имя“ и талант не всегда совпадают… Некоторым „счастливчикам“ повезло. Они стали известны посмертно, но для этого были приложены немалые усилия наследниками, музейщиками, коллекционерами, меценатами или просто деловыми людьми»[147]. С наблюдениями Елены Аксельрод нельзя не согласиться: сам Лабас, потом его вдова, а затем племянница лепили прижизненную, а впоследствии и посмертную судьбу Художника.
Заявки на персональную выставку Александр Аркадьевич подавал каждые пять лет: к 70-летию, 75-летию… И победил: зал на Кузнецком, 20, ему выделили, в «Советском художнике» вот-вот должна была выйти монография. Женя Буторина, ее автор, гордится тем, что обманула цензоров и словосочетание «социалистический реализм» сумела ни разу не использовать; а ведь без этой мантры, как и без ссылок на классиков марксизма-ленинизма, в 1970-х годах в СССР не выходила ни одна книга по искусству. Однако директор издательства все-таки перестраховался и черно-красный «Овал» — ту самую беспредметную композицию, которую всеми силами хотел заполучить себе в коллекцию Костаки, — из иллюстраций выкинул. На персональной выставке 1976 года работу выставить тоже не решились, и только спустя 15 лет картина появилась на выставке «Великая утопия», прославившей во всем мире русский авангард.
Зал МОСХа на Кузнецком, 20, состоявший из пяти небольших помещений, оказался на удивление вместительным: в нем удалось развесить три сотни работ — от самых ранних до самых последних. Сочинив не один десяток панорам и диорам, Александр Аркадьевич Лабас занялся наконец-то макетом собственной выставки. Из чертежного ватмана Леони с Ольгой вырезали в масштабе «стены», а он их «расписал». Некоторые картины пришлось рисовать по памяти — эти работы, попавшие в музеи в 1930-х и даже в середине 1920-х годов, тихо отлеживались в запасниках. «Расписывая» бумажные «стены», Александр Аркадьевич мало заботился о похожести: десятисантиметровые марочки были для него лишь цветовыми пятнами, из которых, как мозаика, складывалась композиция целиком. Зато высота повески и расстояние между картинами выверялись с математической точностью (сказались навыки проектирования). Не случайно Сергей Лучишкин, выступая на творческом вечере, ударится в воспоминания и посетует на отсутствие на выставке театральных и панорамно-диорамных работ «друга Шуры». Лучишкин, работавший в одной бригаде с Лабасом на ВСХВ, уговаривал приятеля повторить хотя бы одну из диорам — для истории. Но Александр Аркадьевич ничего делать не захотел, зато сделал макет экспозиции персональной выставки, выдержавший испытание временем, хотя само слово «макет» давно вышло из употребления и превратилось в «инсталляцию». Макет этот стал главным экспонатом выставки, устроенной несколько лет назад московской галереей «Проун». Прежде его мало кто видел: у выставки 1976 года был куратор, отвечавший за экспозицию, — Фреда Фишкова, и обидеть ее, прекрасного искусствоведа, тонко чувствующего вещи, Лабас совсем не хотел.
В течение нескольких дней маленький крытый грузовичок курсировал между Верхней Масловкой и Кузнецким Мостом. По счастью, основные работы находились в мастерской, а музеи безропотно давали все, что у них просили (отбором занимался сам Александр Аркадьевич с Леони Беновной, но Ракитин, Буторина и Фишкова тоже имели право голоса). Про страховки, охрану и прочие формальности никто тогда и не слыхивал: сотрудники провинциальных галерей запросто везли картины в четырехместных купе вместе с чужими сумками и чемоданами. Оформляли картины в одинаковые белые рамочки: с багетом в стране было напряженно, поэтому заслуги и звания роли тут не играли. Мастера в выставочном зале относились к Александру Аркадьевичу с нежностью, даже невзирая на то, что они с женой постоянно торчали у них на глазах, настолько трогательна была эта престарелая пара. Плакат своей выставки Лабас не доверил никому и сделал сам, причем два варианта: один — с «Эскалатором в метро», второй — с «Самолетом над городом». Выбрали «Эскалатор».
Фрагмент экспозиции персональной выставки. Москва, 1976 г.
«Перед открытием все страшно волновались. Мы купили дяде новый костюм. Искали долго, наконец нашли, но, из-за его маленького роста, пришлось подшивать и брюки, и рукава у пиджака. Потом — рубашка, белая или цветная? Я была категорически против белой. „Вы же не член Политбюро и не председатель колхоза!“ В итоге купили светло-голубую в тонкую полоску и новый галстук, — вспоминает Ольга Бескина-Лабас. — На чеки, полученные за переводы книг советских писателей на немецкий, Лонечке купили в „Березке“ австрийский трикотажный костюм с замшевыми вставками (мечта любой москвички), а к нему — блузку. Затем долго решали — шарфик или бусы? В итоге остановились на бусах. Самой сложной деталью оказались туфли, особенно учитывая ее 32-й размер ноги. Новые достать не удалось — пришлось надевать ношеные, давно привезенные Тильдой Ангаровой из ГДР.
Несколько дней мы с друзьями завозили на Кузнецкий шампанское и шоколадные конфеты, а тетя с дядей продолжали редактировать список приглашенных. Накануне вернисажа в последний раз „отрепетировали“ дядино выступление, и я с чистым сердцем отправилась домой. А на следующее утро раздался звонок: „Дядя передумал. Все-таки рубашка нужна белая…“ Хотя ЦУМ был совсем рядом, времени оставалось в обрез. Выглядел знаменитый универмаг совсем не так шикарно, как теперь: народу не протолкнуться, жарко, всюду очереди… Свежести макияжа я, конечно же, лишилась, но рубашка 38-го размера была куплена. Сидя в мчавшем меня на Масловку такси, я, надо признаться, испытывала к тете с дядей отнюдь не самые нежные чувства.