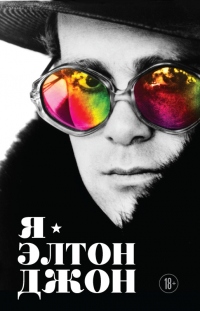Книга Посмотри мне в глаза! Жизнь с синдромом "ненормальности". Какая она изнутри? - Джон Элдер Робисон
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Почти что гением такого рода я был в раннем детстве, да и позже моя способность визуализировать математические функции и то, как работаю микросхемы, явно принадлежала к арсеналу чокнутых гениев.
До недавнего времени доступной информации о мировосприятии и мышлении аспергерианцев и савантов не было. Но в последние годы появились публикации – книги и исследования, – которые проливают свет на этот феномен. Когда я прочел книгу Даниэля Таммета «Рожденный в печальный день» (Daniel Tammet «Born on a Blue Day»), меня поразило, насколько описанный им мыслительный процесс похож на мое собственное мышление. Я заметил много общего между собой и описаниями Темпла Грандена, который мыслил картинками. Чем больше выходит в свет рассказов о таких, как мы, причем записанных со слов аутистов или самими аутистами, тем больше, чует мое сердце, удивительных открытий нас ждет. Нам предстоит еще многое узнать об аутизме и аспергерианцах.
В юности мозг человека непрерывно развивается, проводит новые связи и меняет само мышление. Вспоминая собственное детство, юность и развитие, я понимаю, что у меня бывали периоды, когда способность сосредотачиваться на внутреннем и совершать сложные умственные операции – все это развивалось у меня очень быстро. И вот что примечательно: чем сильнее обострялась у меня способность производить сложнейшие мыслительные операции, – вычисления, решения математических и технических задач, – тем больше я уходил в себя и чурался окружающих. Но когда такая «полоса» проходила, способности мои слегка замедлялись, и в то же время я делался общительнее. В любом случае, эти периоды всегда чередовались через неравные интервалы, приступами.
Мне кажется, некоторые дети, чье место на шкале аутизма где-то посередине, но ближе к высокой функциональности, – то есть такие, как я, – эти дети, если их лишить подобающей стимуляции, в конечном итоге замыкаются в себе до такой степени, что уже не могут общаться с окружающими и жить в обществе. Однако при этом они могут быть блестяще одарены в какой-то крайне узкой области, например, в абстрактной математике.
Ученые уже давно изучают так называемую «пластичность мозга», то есть его способность заново прокладывать нейральные траектории, исходя из полученного нового опыта. Как выяснилось, в разном возрасте у человека преобладают разные типы мозговой пластичности. Мысленно возвращаясь к своему детству, я понимаю, что в четыре и в семь лет у меня были периоды, которые сыграли решающую роль в адаптации к обществу и умении общаться. В те годы я рыдал и дрался, потому что со мной никто не хотел дружить. Я мог бы сторониться детей, чтобы они меня не поколотили, но я, наоборот, предпочитал снова и снова тянуться к ним, а не замыкаться в себе. Мне повезло – в том же возрасте я вполне благополучно общался с вменяемыми взрослыми, – родителями и их знакомыми по колледжу, – и благодаря этому у меня сохранилось желание общаться.
Но я легко могу представить себе ребенка, которому не повезло и он остался без удачного общения, а потому совершенно замкнулся в себе. А если в пять лет ребенок уйдет в себя, то выманить его наружу потом будет крайне сложно.
Возвращаясь к собственной биографии, я также думаю, что полосой значительных перемен и своего рода «перемонтажа мозгов» для меня стало тридцатилетие и последующие несколько лет. Я убеждаюсь в этом, сравнивая то, как работает мое мышление сегодня, и то, какие механизмы действовали у меня в мозгу двадцать пять лет тому назад. Сравниваю я на примере письменных текстов. И вот что я вижу: четверть века назад все, что я писал, выходило сухим и плоским, лишенным даже проблеска эмоций. Я не писал о своих чувствах, потому что не понимал их. Но сегодня я гораздо лучше разбираюсь в своей эмоциональной жизни, и это мощнейшее прозрение позволяет мне формулировать и выражать свои переживания, – и устно, и письменно. Однако за прирост эмоционального интеллекта пришлось заплатить.
Я смотрю на свои технические разработки двадцатилетней давности, – их словно делал кто-то другой. Кое-что из моих тогдашних разработок было подлинными шедеврами экономичности и функциональности. Мне многие говорили, что это просто гениальные творения. А сегодня я смотрю на эти старые чертежи и тексты, и ничего в них не понимаю. Они напоминают мне книгу, которую я прочел в отрочестве, – «Цветы для Алджернона».[14]
Сюжет этого рассказа таков: ученые превратили умственно отсталого человека в гения, однако метаморфоза оказалась недолговечна, и он в скором времени вернулся к своему первоначальному состоянию. Именно так я порой себя и чувствую, когда перебираю свои старые наброски, чертежи и идеи. Все тогдашние разработки были порождены той частью моего разума, которой у меня больше нет. Я больше никогда не придумаю гениальные устройства. Может быть, я способен сочинить что-нибудь вроде пылающей гитары Эйса Фрейли, но только на уровне идеи – а техническое воплощение, дизайн придется создавать кому-то другому.
Но мою историю не назовешь печальной, ведь разум мой не погиб и не угас. Он просто перестроился. Уверен, разум мой так же силен, как и раньше, просто теперь у него другая фокусировка: вместо узкого яркого луча – широкий сноп более рассеянного света. Никто из знавших меня, тридцатилетнего, не поверил бы, что с возрастом я научусь общаться или выражать свои эмоции, мысли, чувства так, как умею сейчас, – как они отражены на страницах этой книги. Да и сам я не поверил бы, что смогу такое.
Что ж, обмен, на мой взгляд, равноценный, сделка получилась выгодная. Мой дар, пусть и гениальный, никогда не помогал мне обрести друзей, и уж точно не приносил радости и счастья. А сейчас моя жизнь стала неизмеримо богаче, разнообразнее, полнее, радостнее и счастливее, – благодаря тому, что мой мозг продолжает развиваться.
Подозреваю, что когда я был маленьким, взрослые как раз в достаточной мере вызывали меня на разговор и стимулировали общаться, и это не позволяло мне свернуть с пути социализации. Так что я научился функционировать в обществе и вписываться в него. Взрослые лучше детей умели справляться с моими ограничениями по части общения. Взрослым удавалось ловить нить беседы, даже если я подавал реплики невпопад, и они чаще детей проявляли интерес к тому, что я говорил, какие бы странности я ни выдавал. Если бы меня не теребили и не вызывали на разговор образованные, неглупые и заинтересованные взрослые, я почти наверняка потонул бы в пучине аутизма и безвозвратно ушел в себя. Очень может быть, что я бы замолчал навек и вообще не смог общаться.
Даже в шестнадцать лет я мог бы с легкостью утратить все навыки общения и резко погрузиться в себя. Мысленно возвращаясь к тем годам, я понимаю, что пойди я по этому пути, мог бы забрести очень далеко – прийти к полному аутизму или, быть может, к той точке, где обитают саванты, способные мгновенно перемножать десятизначные числа. Ведь, в конце концов, я неплохо ладил с разными устройствами, которые придумывал, и они надо мной никогда не насмехались. Они обеспечивали меня головоломными загадками и задачками, но никогда не обижали. В тот год, когда я бросил школу, я, образно говоря, стоял на распутье двух дорог, и от меня требовалось сделать выбор, от которого зависела вся дальнейшая жизнь: что я потеряю, что приобрету.