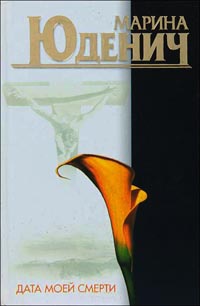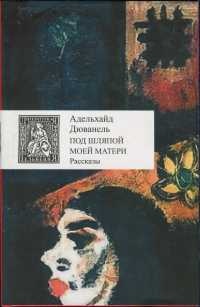Книга Секрет моей матери - Никола Скотт
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Стоит мне вспомнить о той ночи, и меня захлестывает волна боли, пронзают стрелы вины и сожаления, и так же, как сухой, мучительный кашель, с которого началась мамина смерть, тот поцелуй стал предвестником конца, поцелуем смерти, и воспоминание о нем затаилось внутри меня подобно горькой пилюле.
Я смотрела, как он ждет на улице, подняв воротник и пытаясь защититься от январского дождя. Я не спустилась к нему, и он наконец ушел.
Лимпсфилд, 9 января 1959 года
Сегодня он вернулся. Я ждала, когда он уйдет, и из-за этого не успела на автобус. Отец очень разозлился, когда я опоздала к ужину.
Лимпсфилд, 12 января 1959 года
Сегодня он вернулся; говорил с Эллен. Она указала на окно, и я отошла назад, вглубь комнаты. Надеюсь, он меня не заметил.
Лимпсфилд, 15 января 1959 года
Сегодня он ждал внутри, у входной двери, поэтому я не увидела его из окна и, думая, что его нет, буквально налетела на него, боясь снова опоздать на автобус.
Он слабо улыбнулся, но его глаза оставались грустными, я это видела. Он пришел, чтобы узнать, как я; от меня давно не было вестей, и они волновались. Получила ли я цветы, в порядке ли я? Я невольно улыбнулась, потому что он напомнил мне, как в Хартленде постоянно спрашивали, все ли у меня в порядке. Но потом у меня возникло странное ощущение. С чего бы ему волноваться? Один поцелуй ничего не значит, особенно если он повлек за собой смерть, как это было в моем случае.
Он держал надо мной зонт, провожал меня до остановки и вел нейтральный разговор, до тех пор пока не пришло время садиться в автобус.
Лимпсфилд, 23 января 1959 года
Почти каждый день на этой неделе он ждал меня после работы и провожал на автостанцию. Я сказала ему, что мой отец не одобрит ни таинственности, ни частоты этих встреч. Но он возразил, что нет ничего постыдного в том, чтобы провожать девушку до автобуса. Ведь мы просто идем, переставляя ноги, чтобы не опоздать к ужину. Вот и все.
Я прохожу до автобусной остановки триста двадцать пять шагов (он — двести восемьдесят пять, потому что у него длинные ноги). Мы идем медленно, и не всегда при этом разговариваем, иногда молчим. Он угощает меня сладостями, плиткой шоколада или пирожным, а однажды принес книгу, о которой мы говорили. Честное слово, я не совсем понимаю, почему он продолжает приходить. Я ведь простая семнадцатилетняя девушка, которая еще ничего не видела, которой почти нечего предложить ему, нечего дать. К тому же я стала другой; все теперь другое. Я уже не та, что прошлым летом, легкомысленная, зараженная дурацким энтузиазмом в их мире веселья, солнца и блеска. Сейчас зима, и во мне нет всего этого. Я лишь тень, которая вспоминает о своей матери или обдумывает, как бы сбежать из отцовского дома, лишенная перспектив. В его мире, где даже зимой должно быть много интересных событий, таких как вечеринки, художественные выставки, театральные премьеры, я никто.
Меня это не тревожит. В некотором роде то, что было у нас с ним, абсолютно нереально. Это была летняя фантазия, ее даже увлечением нельзя назвать. Когда я сказала ему об этом, он ответил, что это неправда. А еще он сказал, что думал обо мне все это время, что не может выбросить меня из головы, что я совершенно не похожа на девушек, которых он встречал. Мне это кажется странным, поскольку в его мире, мире взрослых, где люди работают и живут самостоятельно, могут куда угодно отправиться на поезде, а не только ездить на автобусе по хорошо знакомой дороге между домом и курсами секретарей, наверняка есть много интересных девушек, ну, или женщин, утонченных, знающих, что такое любовь.
Может быть, ему не нужна моя любовь? Может быть, ему просто нравится со мной разговаривать? Не знаю. Мы обсуждаем книги, события, которые происходят в мире. Иногда он рассказывает мне о своей работе, а я ему — об учебе. Он видел фильм, о котором я читала в газетах, «Бен-Гур» с Чарлтоном Хестоном, и я позавидовала ему, поскольку мы с мамой очень хотели его посмотреть. Он предложил мне сходить в кино, прямо сейчас. «Пропусти занятия», — сказал он. Вместо того чтобы идти от остановки на курсы, нужно несколько раз свернуть в другую сторону и спуститься по улице к «Одеону». Мол, это будет вполне естественно. Я невольно рассмеялась и покачала головой, поскольку наши с ним — или, точнее, его и отцовские — понятия о том, что такое «естественно», совершенно не совпадают.
Мы ни разу не говорили о поцелуе или о времени, которое проводили вместе летом, и уж тем более об остальных обитателях Хартленда. В моих воспоминаниях это стало чем-то вроде цветного кинофильма о прошлом, вроде «Волшебника страны Оз», который я смотрела еще в школе. Вихрь ярких красок — зелень сада, морская синева, ослепительная белизна гальки под моим окном. Это уже нереально; даже мои воспоминания нереальны, они стали двухмерными и живут сами по себе, как будто я была всего лишь посторонним наблюдателем, а теперь просто отступила назад, за кулисы, и мне видны плоские картонные декорации розового сада, терраса и цветные фонарики на деревьях.
Как бы там ни было, это самая безмолвная, самая серая зима, и время сузилось до этих трехсот двадцати пяти шагов по темной ледяной площади. Иногда, в тот миг, когда я забираюсь в автобус и оборачиваюсь на прощанье, он машет рукой, и мне кажется, что я вижу, как в его смеющихся глазах мерцает поцелуй, и на миг вспоминаю о магии Хартленда и о тепле летней ночи.
Я сохраняю дистанцию или, по крайней мере, пытаюсь это делать. Для меня и он, и Хартленд связаны со смертью, с концом. Однако я чувствую, что постепенно оттаиваю. Повсюду так холодно. На курсах зябко, потому что здание очень старое и ветхое, и нам приходится сидеть за машинками в перчатках с отрезанными пальцами. В доме отца всегда холодно и темно: по всей видимости, он не считает нужным зажигать камины и включать свет, ведь там живем только мы вдвоем. По дороге тоже холодно, а в автобусе так зябко, что я с трудом встаю, когда приближается моя остановка. Дожидаясь автобуса на станции, я прыгаю на месте, чтобы не замерзнуть. Но когда я разговариваю с ним и вглядываюсь в его смеющиеся глаза, мне почему-то становится теплее.
Лимпсфилд, 5 февраля 1959 года
Сегодня я сделала это, я действительно сделала это! Заявила отцу, что нам назначили дополнительную лекцию, и предупредила, что немного опоздаю. На курсах я хотела сказать, будто записалась на прием к врачу и поэтому мне нужно уйти пораньше, но потом — по чудесному стечению обстоятельств — миссис Фелпс заболела, и теперь мне не нужно бояться, что моя ложь откроется.
Мы встретились с ним раньше назначенного времени, и вместо того, чтобы пройти обычные триста двадцать пять шагов, побежали — чтобы сэкономить время, а еще потому, что было ужасно холодно, — завернули за угол и спустились к «Одеону» — все так, как он и предлагал. Мне пришлось заставить себя подавить воспоминания, не думать о том, как мы приходили сюда с мамой, и дело было не только в том, что мы здесь бывали, но и в предвкушении запретного удовольствия, в понимании, что тебе нельзя здесь находиться. Мама никогда не лгала отцу, но у нас с ней была негласная договоренность: мы не рассказывали ему о своих походах в кино, зная, что он все испортит нотациями о фривольности и деградации английской молодежи, в то время как все, чего нам хотелось, — это восхищаться Гарри Грантом и Деборой Керр.