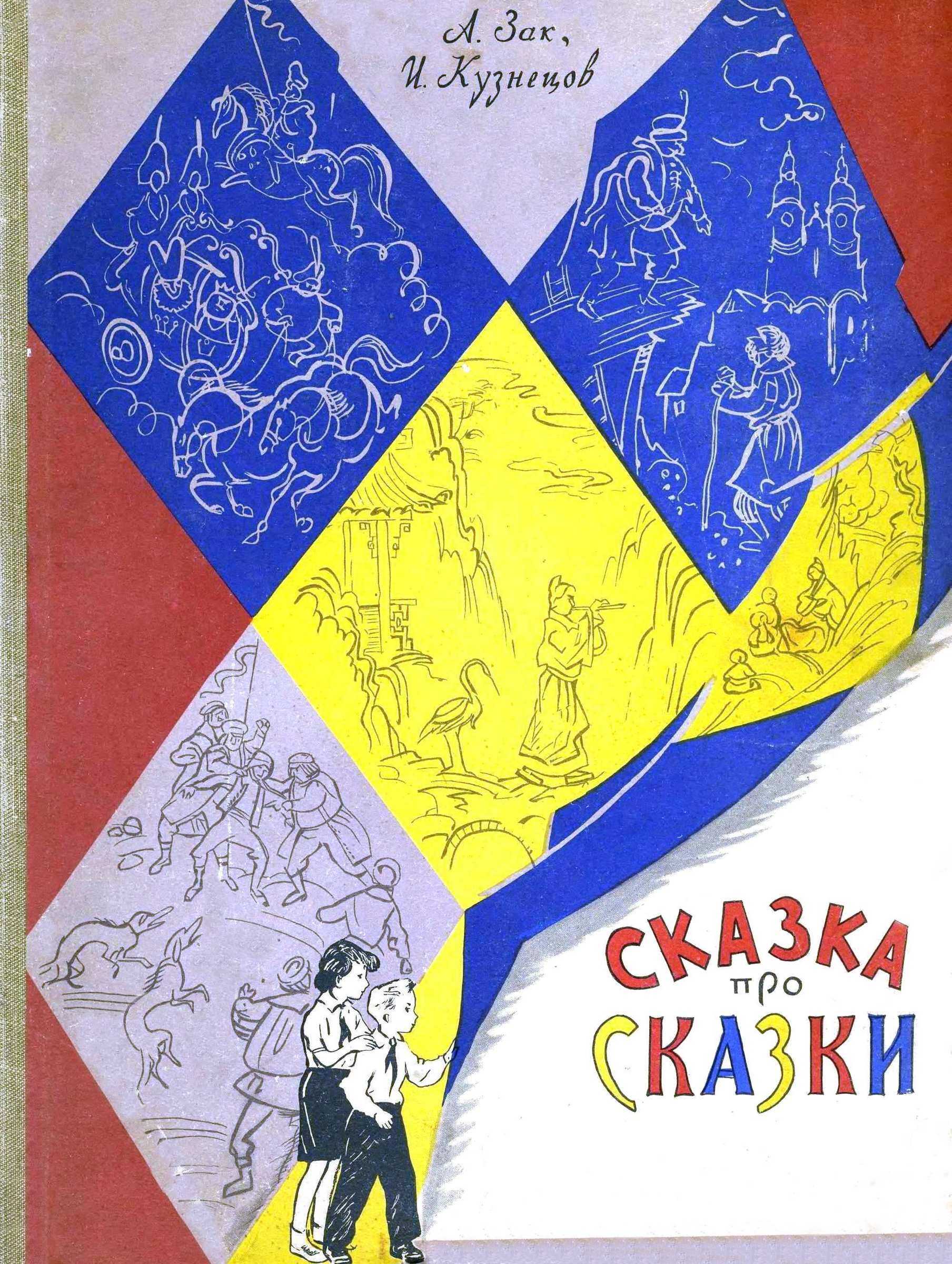Книга В путь-дорогу! Том I - Петр Дмитриевич Боборыкин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Черезъ мѣсяцъ я напишу, — сказалъ Борисъ.
— Хорошо, а сегодня вотъ почитайте вслухъ. «Демона» прочтите.
Борисъ сѣлъ на мѣсто и началъ читать.
Особенно пріятно звучалъ стнхъ въ его чтеніи. Онъ увлекся и замечтался… Ему живо представилась эта Тамара, съ черными, глубокими какъ ночь, глазами, «такими, какъ у тети,» досказалъ онъ мысленно. И каждый стихъ, каждый поэтическій образъ отзывался у него на сердцѣ, находилъ мѣсто въ его внутреннемъ мірѣ, точно что-то родное, знакомое. Вся прекрасная жизнь, воздвигнутая передъ глазами могучимъ дарованіемъ поэта, воспринималась Бориеомъ сознательнѣе, живѣе, съ тѣмъ сострастіемъ, какое является въ молодыхъ натурахъ, начинающихъ болѣе полную, болѣе свѣтлую жизнь.
И то, по чему прежде только скользила мысль, что только щекотало ухо, получало теперь настоящій смыслъ, живой, обаятельный образъ, рождало новыя чувства, уносило въ чудный міръ, гдѣ все стройно, все прекрасно и такъ правдиво и возможно.
Борисъ уже позабылъ, что онъ въ классѣ, онъ не замѣтилъ, что вдоль и поперекъ ходитъ сухая, прозаическая фигура Ергачева, что Мечковскій играетъ въ дурачки со Скворцовымъ, что въ дверь смотритъ сморщенная, желтая рожа Куртина. Онъ читалъ:
И улыбается она.
Веселья дѣтскаго полна:
Но лучъ луны во влагѣ зыбкой
Слегка играющій, порой,
Едва-ль сравнится съ той улыбкой,
Какъ жизнь, какъ молодость живой.
И ему вспомнилась эта улыбка, онъ зналъ ее такъ же хорошо, какъ и поэтъ, она улыбалась ему и будетъ еще улыбаться, и будетъ еще краше, радостнѣе.
Точно изъ себя самого лились звуки, вязались слова такъ, какъ того просила душа.
«Развѣ это неправда?» спрашивалъ Борисъ, читая:
Но были всѣ ея движенья.
Такъ стройны, полны выраженья,
Такъ полны милой простоты.
Что если бъ Демонъ, пролетая,
Въ то время на нее взглянулъ,
То, прежнихъ братій вспоминая,
Онъ отвернулся-бъ и вздохнулъ.
И все глубже и глубже затягивалъ Бориса міръ красоты и силы, все прозрачнѣе становилась для него каждая строчка… Тотъ ли это Демонъ, который, онъ еще тринадцати лѣтъ, въ засаленныхъ тетрадкахъ, читалъ и заучивалъ наизусть… Онъ, кажется, самъ переживалъ каждый моментъ душевной драмы; онъ радовался каждому слову, которое выражало его новую жизнь. Онъ начиналъ чувствовать, почему поэты дѣйствительно поэты, а не простые люди.
И вмѣстѣ съ тѣмъ, росло его волненіе; драма, кипящая въ чудной поэмѣ, захватывала его дыханіе, будила въ немъ какія-то страшныя предчувствія… и вызывала снова ту тревогу, отъ которой онъ уже прорыдалъ цѣлую ночь.
Все затихло въ классѣ. Горшковъ сидѣлъ, закрывши лицо руками; Абласовъ смотрѣлъ на Бориса мягкимъ взглядомъ; прочіе слушали, приподнявшись на мѣстахъ, подчиняясь силѣ и чувству, которыми полно было чтеніе. Ергачевъ стоялъ по срединѣ класса, заложивъ руки въ карманы.
— Браво! — крикнулъ Горшковъ и взглянулъ быстро на Бориса. Тотъ, весь разгорѣвшись, перевернулъ страницу и читалъ дальше. Онъ не могъ уже остановиться. Его влекло, точно будто онъ не зналъ, чѣмъ кончится эта повѣсть.
И въ судьбѣ Тамары онъ видѣлъ чью-то близкую судьбу. Читая картину прекрасной смерти, онъ не могъ отогнать отъ себя мысли, что, вѣдь, и она можетъ умереть… «Въ нашемъ домѣ всѣ умираютъ,» повторялъ онъ… «А вѣдь и мертвая она будетъ улыбаться.» И въ отвѣтъ на свою странную мысль, — онъ читалъ:
Но теменъ, какъ сама могила,
Печальный смыслъ улыбки той.
Что въ ней? насмѣшка-ль надъ судьбой,
Непобѣдимое-ль сомнѣнье,
Иль къ жизни хладное презрѣнье,
Иль съ небомъ гордая вражда?
Если-бъ когда-нибудь, въ другое время, ему пришли такія странныя мечты, онъ бы разсмѣялся или удивился, какъ чему-то неприличному въ его лѣта и въ его положеніи. Борисъ, съ дѣтства привыкшій сдерживать себя, не находилъ теперь дикой такую впечатлительность; онъ не задавалъ себѣ благоразумныхъ вопросовъ; теперь въ глазахъ его все было возможно и естественно.
Когда онъ кончилъ, на лбу его показался потъ; онъ почувствовалъ утомленіе — и ему стало немного стыдно за свой пафосъ.
— Славно прочелъ! — вскричалъ Горшковъ — никогда еще на меня лермонтовскіе стихи такъ не дѣйствовали.
Многіе пзъ учениковъ захлопали.
Борисъ долго не могъ ничего сказать; ему хотѣлось уйти изъ класса, остаться одному, не показывать всѣмъ товарищамъ, что онъ тронутъ.
— Повтори послѣднія строфы! — кричалъ Горшковъ. — Иванъ Егорычъ, позвольте еще разъ повторить.
Ергачевъ кивнулъ головой.
— Боря, пожалуйста повтори, — приставалъ Горшковъ.
— Нѣтъ, Валерьянъ, — отвѣтилъ Борисъ — я усталъ.
— Ну, маточка, пожалуйста, не кобенься, коли просятъ тебя.
Борисъ началъ опять читать, и снова передъ нимъ проходили прекрасные образы, тайное, страстное свиданье и поцѣлуй и крикъ, въ которомъ было:
Любовь, страданье,
Упрекъ съ послѣднею мольбой,
В безнадежное прощанье
Прощанье съ жизнью молодой.
И картина прекрасной смерти, гробъ изукрашенный цвѣтами и чудное лицо съ вѣчной и неразгаданной улыбкой, и свѣтлый рай съ легкокрылымъ ангеломъ, несущимъ грѣшную душу, и встрѣча съ мрачнымъ демономъ.
Точно какой внутренній голосъ подсказывалъ ему чудныя слова:
Узнай! давно ее мы ждали!
Ему пришла мысль, что еслибъ тотъ же ангелъ несъ душу ея, онъ сказалъ бы тѣ же слова и такъ же бы кончилъ:
Она страдала и любила—
И рай открылся для любви!
Звонокъ не далъ Борису докончить самыхъ послѣднихъ строкъ поэмы.
Слѣдующій урокъ, у француза, онъ ничего не дѣлалъ, немножко поболталъ съ учителемъ и стало ему ужасно скучно въ этой однообразной, пошлой гимназіи. Только тутъ онъ впервые почувствовалъ, какъ безцвѣтно проходитъ у всѣхъ цѣлая половина дня, тогда какъ она могла быть наполнена настоящей жизнью.
Еслибъ ему не было совѣстно, онъ сейчасъ убѣжалъ бы, рискуя даже попасться инспектору и просидѣгь еще разъ безъ обѣда.
«А что, если меня теперь какъ-нибудь оставятъ, — подумалъ онъ: — какъ я явлюсь къ тетѣ? Ничего!» отвѣтилъ онъ.
И не обманывалъ себя; онъ не чувствовалъ при этой мысли никакого особеннаго смущенія. Ихъ отношенія были уже настолько просты и задушевны, что онъ не боялся явиться передъ ней школьникомъ. Борисъ чувствовалъ, что она его уже знаетъ, и нечего ему драпироваться, казаться большимъ, когда онъ, въ самомъ-дѣлѣ, былъ не маленъкій.
— Нѣтъ, послушай, Абласовъ, — говорилъ Горшковъ: — согласись, что у Телепнева нынче было что-то особенное… чувство какое… глубина, братецъ, какая… вѣдь я не изъ слезливыхъ, а