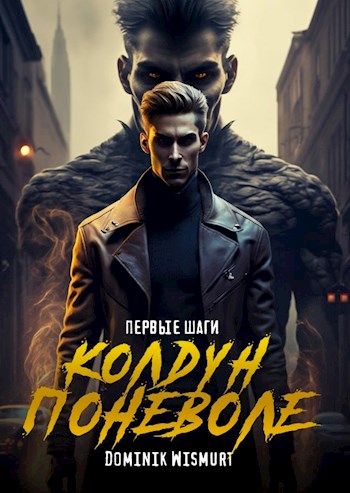Книга На сцене и за кулисами. Первые шаги на сцене. Режиссерские ремарки - Джон Гилгуд
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Моэм — человек со странным и оригинальным складом ума. Как-то раз я почтительно обсуждал с ним сцену, где дочь Шеппи, разъяренная тем, что ее отец собирается отдать выигрыш, полученный случайно на скачках, и все же не теряющая надежды, что деньги достанутся семье, если только удастся зарегистрировать отца как душевно больного, ходит взад и вперед по сцене, закрыв глаза и повторяя кощунственную молитву: «О боже, пусть признают, что он рехнулся». Я сомневался, уместны ли некоторые комические реплики в столь напряженном эпизоде, и спросил Моэма: «Как, по-вашему, должна звучать эта сцена — комедийно или патетически? Если оставить все как есть, публика будет смеяться не там, где следует, и актрисе придется очень трудно». Мистер Моэм с искренним удивлением повернулся ко мне и ответил: «По-моему, вся сцена очень смешная. Разве не так?» В конце концов, сцена эта была с удивительной силой сыграна Анджелой Бэддели, которая блистательно исполнила труднейшую роль. Моэм поздравил ее, но я так и не узнал его истинного мнения — возможно, он считал, что наше сценическое решение этого эпизода лишь испортило его авторский замысел.
Позднее я попросил мистера Моэма просмотреть со мной «Шеппи» на утреннем спектакле, так как хотел получить его санкцию на небольшие вымарки, которые мне казались необходимыми. Мы уселись в ложе и принялись делать заметки. В антракте я подумал: «Ну, теперь-то он уж заговорит со мной». Но Моэм обладает удивительным умением вытянуть из собеседника все и в то же время почти не раскрыть рта. Я заметил, что, как обычно, веду разговор один, и в сердце мое закралось подозрение, что мой собеседник потешается про себя над моим красноречием, хотя держится безукоризненно. Несмотря на это, я продолжал болтать — теперь уже из чистой нервозности.
Несколько дней спустя Моэм позвонил мне, пригласил меня позавтракать с ним у «Клариджа» и добавил: «У меня есть одна книжечка, которую я хотел бы подарить вам». Я отправился на свидание, полный радужных надежд, но меня ожидало еще одно разочарование. Я рассчитывал на спокойный завтрак tété á tété, а попал в большую компанию, так что мне пришлось удовольствоваться лишь немногими любезными словами хозяина, сидевшего далеко от меня на другом конце большого стола. По окончании завтрака Моэм увел меня в гардероб, где пробормотал несколько вежливых слов и сунул мне в руки обещанный подарок. Книжка оказалась авторским экземпляром «Шеппи». Раскрыв ее, я обнаружил, что Моэм посвятил пьесу мне. Это был красивый жест с его стороны, и я почувствовал себя невероятно польщенным. Тем не менее я был бы еще более благодарен Моэму, если бы он хоть час побеседовал со мною о театре.
Завязывать близкие отношения с драматургами очень трудно. Виной тому мой актерский эгоизм. Я не умею вызывать людей на разговор, и друзья мои утверждают, что всерьез я интересуюсь только самим собою. Хочу надеяться, что это не совсем так. Моэм — большой талант, но человек до странности замкнутый и необщительный. Тем не менее я ни за что на свете не отказался бы от встречи с ним, хотя он, несмотря на всю свою любезность, дал мне тогда почувствовать, что считает чрезмерной и неуместной мою юношескую пылкую восторженность. Надеюсь все же, что он понял, насколько я восхищен его творчеством. Впрочем, писатели, может быть, предпочитают, чтобы ими восхищались на расстоянии. Что касается Моэма, то бесспорно — он очень скромен.
1932–1933
Рукопись пьесы «Ричард Бордосский», аккуратно отпечатанная на машинке с синей лентой, пролежала в моей уборной несколько дней, прежде чем я нашел, наконец, время заглянуть в нее. Я взял ее в руки, дожидаясь очередного выхода на утреннике «Добрых товарищей», и начал читать. В пьесе был длинный список действующих лиц и большое количество сцен, к тому же я плохо знал эпоху Ричарда, если не считать сведений, почерпнутых из Шекспира. Первая сцена новой пьесы была очаровательной и легкой, а описание внешности Ричарда сразу покорило меня — я подумал, что автор, быть может, видел меня в этой роли в «Олд Вик». Зато следующая сцена совета показалась мне слишком многословной, и я путал различных советников и дядей короля. Только начав читать третью сцену, которая происходит во дворце Ричарда после обеда и во время которой Дерби в одном углу зала рассказывает нудные истории о турнире, а в другом углу леди Дерби беседует с Анной о модах и религии, я по-настоящему заинтересовался и пленился пьесой.
Я сразу понял, что «Ричард» — это для нас дар божий и что Гвен Фрэнгсон-Дэвис будет прелестной Анной, если только удастся убедить ее сыграть эту роль. Я не собирался сам ставить «Ричарда Бордосского»; было бы слишком трудно исполнять обязанности режиссера и играть такую длинную и утомительную роль. Я надеялся заполучить Комиссаржевского, но он в это время находился за границей, и заинтересовать его пьесой не было возможности. Бронсону Элбери рукопись понравилась, и он предложил дать пьесу на двух вечерних воскресных спектаклях в «Артс тиэтр». Я с радостью ухватился за это, пригласил Харкорта Уильямса ставить пьесу вместе со мной, и мы приступили к работе.
Я показал текст «Ричарда Бордосского» художницам Мотли, которые пришли в восторг и принялись изобретать остроумные планы, как сэкономить время и деньги на оформление. Элбери отпустил нам 300 фунтов и предоставил «Нью тиэтр» для пробных спектаклей, чтобы дать нам большую сцену, где мы могли бы попрактиковаться в быстрой смене декораций. Однако, распределяя роли, ставя пьесу и играя одновременно в двух театрах, я окончательно сбился с ног к тому моменту, когда прошли эти два спектакля. Хотя публика была в восторге, я чувствовал, что средняя часть пьесы слаба, и не верил, что спектакль может иметь настоящий коммерческий успех. После утомительной премьеры я без большого сожаления перестал думать о «Ричарде» и продолжал играть «Кто лишний?».
Тем временем Элбери настаивал, чтобы я возобновил «Ричарда Бордосского» для ежедневных спектаклей в «Нью тиэтр». В течение нескольких недель я никак не мог загореться этой идеей, потому что продолжал считать отдельные части