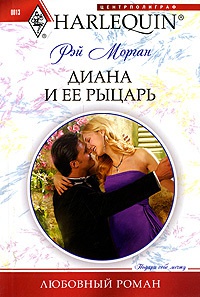Книга Самое красное яблоко - Джезебел Морган
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Мне так жаль, ох, Джанет, мне так жаль…
Холод, текущий по земле, поднимающийся по ногам – к сердцу.
– Но наказание…
– Яблоко – и есть твое наказание, Джанет.
Снова прояснилось, и солнце обласкало меня теплыми лучами, и тень исчезла в золотом его свете. Остался лишь голос – и холод, уже кольнувший сердце.
– Твоему предку мы дали ветвь от нашей яблони – и от нее родился ваш сад, сад, прекраснее которого не знала Альбрия. Теперь пришел срок вернуть долг. Отдать вашу ветвь, чтобы наша яблоня принесла плод – самое красное яблоко, что так нужно тебе. Что так нужно мальчишке.
Словно занавес передо мной разошелся – взгляд, на мгновение затуманившийся слезами, прояснился, и я видела уже иное. Там, где когда-то вздымались корни леса, где кряжистые, старые деревья бросали тень на алтарь, теперь стояла яблоня, одна-единственная яблоня, такая огромная и старая, что я даже не могла представить, сколько же лет ей и как же широко раскинулись ее корни.
Черной и мертвой стояла она, такой же черной и мертвой, как наш погибший сад, и сердце обливалось кровью, когда я смотрела на нее. Как прекрасна должна она быть, когда цветет, одетая в белое, подобно Хозяйке Котла…
– Но какую ветвь я должна отдать? – растерянно переспросила я, не сводя глаз с ее ветвей. – Ведь сад погиб, и ни одного дерева не осталось.
Горше всхлипнула Маргарет, тонкие пальцы ее сильнее стиснули мои плечи. Хотелось обнять ее, утешить – ничего страшного, милая, я справлюсь, я справлюсь, что бы они ни потребовали, – но оборачиваться я не смела. Пусть не было сейчас сил бояться, но инстинкт, такой же древний, как и соседство наше с дивным народом, подсказывал: на Ольхового короля лучше мне не смотреть.
– Ветвь твоего рода, – ответил он, и давящее присутствие исчезло, вмиг он рассыпался ворохом листьев, и ветер тут же подхватил их, закружил вокруг меня.
Долго, слишком долго приходило осознание.
Сердце сбилось с удара, и губы пересохли, слова, что рвались наружу, колючим комком застряли в горле.
Дурное же наследство оставил нам предок!
– И почему же все сделки сводятся к крови? – Губы сами собой скривились в жуткой гримасе, едва ли похожей на улыбку.
Я лелеяла надежду, что лишь кровью все и обойдется.
Медленно я обошла алтарный камень, приблизилась к яблоне. Кора ее, растрескавшаяся, казалась сухой и мертвой. Несколько зарубок, потемневших от смолы, виднелось у корней, и костью белел срез на нижней ветке.
Я провела лезвием по ладони и тихо вскрикнула от боли, когда кровь брызнула на корни. Алый ручеек бежал по коже, разбивался о землю, впитывался в нее без остатка. Мне почудилось, что дерево едва слышно вздохнуло, пробуждаясь от долгого забытья. И тогда я снова взрезала кожу.
Но и этого было мало.
Когда боль стала нестерпимой и я покачнулась со сдавленным стоном, Деррен обхватил меня за плечи, отвел в сторону, бормоча что-то бессмысленное и утешительное. Он споро перетянул мое запястье чистым носовым платком, и на ткани тут же проступили алые пятна. В стороне, за камнем, там, где чудился мне Ольховый король, стояла Маргарет. От близости открытой крови она трепетала подобно травинке.
– Прости, – шептала она, – я так не хотела тебе говорить. Я так надеялась, что все обойдется.
Я утешила ее слабой улыбкой. Милая сестра и сейчас, перешагнув за грань миров, оставалась по-детски наивной. Я не хотела ее разочаровывать.
Деррен увел меня в дом и там обработал порезы, и я едва сдерживала крики за стиснутыми зубами, когда он промывал раны отваром трав, который принесла Грайне. Огонь кипел в крови и путал мысли, и одна из них возвращалась снова и снова – слишком мало крови я отдала. Нужно еще.
Моя ладонь до сих пор плохо сжимается из-за старых рубцов, натягивается кожа, и вспыхивает боль, напоминая о тех днях, о тех бесконечных днях, когда я ходила к мертвой яблоне и сидела у ее корней, глядя, как кровь уходит в землю.
Сначала я растравляла раны на ладони, но скоро поняла, что этого мало. Тогда я стала надрезать вены над сгибом локтя, и Деррен ругался сквозь зубы, накладывая жгуты и останавливая кровотечение. Накатывала слабость, и я долго сидела на земле у корней, задрав голову, наблюдала, как медленно оживает древнее дерево, как наливается соками, как набухают его почки.
Но октябрь приблизился к половине, и ни листка не появилось на ветвях, ни цветка. На руках моих же живого места не осталось, и, хоть Деррен и раздобыл для меня и свежее мясо, и сочную печень, и красное вино, слабость становилась сильнее. Грайне приносила отвары трав – из шиповника, из красного клевера, из крапивы, щедро сдобренные чарами, но и они помогали мало.
В день, когда первый листок распустился на нижней ветви и сразу же под моим взглядом увял, я разрыдалась, и слезы куда щедрее увлажнили землю, чем кровь. Дикий, отчаянный ужас накатил на меня тогда – что я так и останусь, холодная, обескровленная, под корнями дерева, что так и не смогу ничего исправить, никому помочь.
Что смерть моя будет напрасна.
Когда высохли слезы и под повязкой скрылся порез, рядом со мной опустилась Маргарет.
– Джанет, ты же понимаешь и сама, что этого мало.
Я не отвечала. Зачем тратить слова на то, что и так очевидно?
– Наша семья должна вернуть свою ветвь, – тихо продолжила она, не глядя в мою сторону. – Боюсь, договор требует жизни, а не крови. Жизни одной из нас.
Знал ли наш предок, что обещает убить ребенка, если нарушит договор? Тогда меня это волновало мало, а удивляло еще меньше. Древние нравы нашего народа были не менее жестоки, чем законы.
– Я… я уже не могу. – Она сдавленно всхлипнула, и сверкающие слезы побежали по ее щекам. – Прости, о, прости меня! Он знал, что я могу умереть в расплату, знал и потому предложил мне стать одной из них – чтоб оградить от договора, чтоб защитить.
– Это хорошо, Маргарет. – Каждое слово требовало огромных сил, но слезы сестры разрывали мне сердце, и я не могла ее не утешить. – Он поступил правильно. Не ты должна расплачиваться за наши ошибки.
Она замолчала. Даже дыхания ее не было слышно, и если б я закрыла глаза, то и вовсе могла бы подумать, что осталась одна.
– Но и ты не должна.
Она обернулась, и глаза ее впервые сделались темны, как море в бурю, а губы сжались