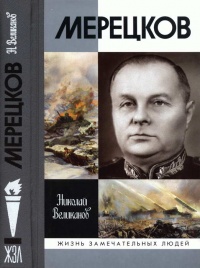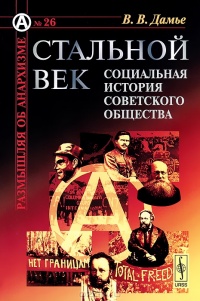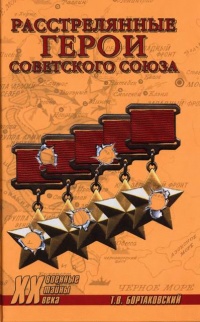Книга Дядя Джо. Роман с Бродским - Вадим Месяц
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Ефимова встретила меня разочарованно.
— Нажрался? Приперся?
— У меня сухой закон.
— А у меня завтра экзамен. В семь утра.
В дом все-таки впустила, где мы спешно, в порядке шахматной партии выпили чая. Под щелчки шахматных часов.
— Я приеду к тебе свататься, — сказал я. — На коне.
— Что за феодализм?
Домой я возвращался по каким-то рельсам, напевая «иду домой по привычке». Саид не сомневался, что Наташка оставит меня у себя, и уехал. Я же заранее был уверен в обратном.
Удивительное равнодушие, которое охватывало меня тогда и сохраняется сейчас, непонятно мне до сих пор.
— Почему ты приглашаешь в Нью-Йорк самых… неталантливых, — Марина Георгадзе[95] явно подыскивала подходящее слово к контингенту хобокенских фестивалей, и ей это удалось.
Мы жили с ней по соседству. Познакомились у Саши Сумеркина, который работал в «Новом журнале» и подрабатывал секретарем у Бродского. Необыкновенно мягкий, наблюдательный человек, он высовывал из свитера длинную черепашью шею и крутил маленькой лысой головой, дружески изучая окружающих. Мы с Маринкой только что убежали с выступления Кенжеева в студии у Виталия Комара, потому что устали от многословия.
— Я приглашаю друзей, — сказал я. — Они у меня самые талантливые.
— Нет, Дыма, друзей ты приглашаешь редко.
— Ты считаешь, что я хочу выслужиться перед Гандлевским и Приговым?
— В том-то и дело, что ты их в упор не видишь.
— Ну, конъюнктура такая. Приглашаю того, кто на слуху. Где мне взять других? — сказал я, вспомнив про машинку Крюгера. — Я их не читаю. Листаю. Пишут нормально, но неинтересно.
— Что я и говорю!
— Знаешь, — вдруг догадался я. — Я приглашаю их потому, что многие из них — short term poets. Поэты эфемерные, скоропортящиеся. Их задача — вспыхнуть и погаснуть. Иного не дано. Их надо жалеть. Если хочешь, это моя судьба. Чаша, которую нужно испить. Жертвоприношение. У меня всё есть, у них — ничего. Чтобы избежать больших бед, надо навлекать на себя маленькие. Другими словами, я хочу от них откупиться. Ты ведь хотела, чтобы я пригласил вместо Фанайловой или Петровой твою подругу? Проблема в том, что ее стихи мне тоже не нравятся.
— Ты думаешь, они тебе когда-нибудь помогут?
— Боже упаси. О чем ты, Марина? Не надо мне ничьей помощи.
По волнам моей памяти проплыл Шамшад Абдуллаев в окружении двух наложниц. Из его брючин сыпался ферганский песок и ровно ложился на дорожки университетского городка. Мимо пробежал Воденников в расстегнутой по пояс рубахе. На его розовой груди демонстративно покачивался русский крест. Проковылял вечный мальчик-старичок Александр Уланов. Губы его что-то шептали, но звуки не складывались в слова. С книгой наперевес, аки с иконой, из тьмы выступил Ярослав Могутин. На обложке он был запечатлен в обнимку с собственным членом. На выставку слоновьего навоза в Музее современного искусства пробежал Александр Скидан. Он по-птичьи поводил тонким носом, сломанным когда-то в школьной драке, чем был похож на меня. В берете под Арагона вышел Аркадий Драгомощенко и попросил прикурить. Лена Фанайлова зажгла ему сигарету. Из тьмы выступил Илья Кутик, похожий на бобра из мультфильма. Он тоже имел «справку о гениальности» от Дяди Джо, но пользовался ею с большей сноровкой, чем я. Пригов появляется на сцене в пиджаке с карманами, полными миловидных крыс. Их мордочки и хвостики торчат здесь и там. Лена Пахомова и Маша Максимова для смеха примеряют мужские пальто и встают на табуретки — они похожи на привидения, которыми Карлсон пугал фрекен Бок. Лев Рубинштейн умело протискивается сквозь толпу и показывает пальцами знак победы. Никому не понятно, что он имеет в виду. Немного сутулый Слава Курицын застенчиво улыбается. Он напрочь забыл про «русский постмодернизм». Марк Липовецкий о «постмодерне» не забыл. Он строго взирает на остальных — в американском университете трудно сменить специализацию. С немым укором смотрят на всех Кибиров и Гандлевский. Им до сих пор не верится, что время взяло свое. Драгомощенко целует руку Лене Шварц. Лена секунду держит перед ним маленькую ладошку с обгрызенными ногтями — и тут же ее отдергивает. Парщиков предлагает открыть издательство. Женя Бунимович сравнивает геометрию Манхэттена с очертаниями Васильевского острова. Ваня Жданов просит открыть ему пиво: бутылкой о бутылку. Прежнего навыка я не утратил. У нас была хорошая компания, думаю я. Нельзя относиться к поэзии столь критично. Все мы — одной крови.[96]
Георгадзе тоже писала стихи, но в моих фестивалях участвовать отказывалась, как и Гандельсман. Она обреталась у парка Ван-Ворст с ветераном Вьетнамской войны, который ранее принципиально бомжевал. Он фиктивно взял Марину замуж, чтоб она получила статус местного жителя. Надеялся, что у него получится на время нормальная жизнь. Продержался недолго.
Благодаря Марине началось мое возвращение в русский мир.
Именно она сообщила мне, что в ближайшем баре Winston Place некто Сережа Рафал продает пельмени из-под полы. Рафал, в свою очередь, поведал, что на Гранд-стрит открывается русский продовольственный магазин. Период моей натурализации оказался короток. Полтора года. Вскоре я переместился в естественную среду обитания и, хотя преподавал в американской конторе, общался в основном с русским криминалитетом.
Фостер, перетащивший меня в Джерси-Сити из Хобокена, о наших знал понаслышке. Гандельсман уже переехал ко мне, когда из Квинса сюда перебралась Юля Беломлинская, называвшая когда-то эти места «дырой». Художник и женщина-шансон, она переехала в лофт опустевшей фабрики на краю города, облюбованной местной богемой. Художники, наркодилеры, романтические бездельники арендовали здесь огромные помещения за символическую плату. Беломлинская писала об этом. «Мы отправились в уездный городок Джерси-Сити, что находится прямо под Нью-Йорком, и сняли сарай в помещении бывшей табачной фабрики. Эта табачная фабрика вся сплошь была заселена беженцами от великой американской мечты». В сквоте с Юлией поселился Алексей Хвостенко[97]. Он заехал погостить из Парижа и прижился здесь на пару лет. Я никогда не слышал, чтобы он пел, хотя нередко с ним виделся. Хвост молчал, и это было молчанием человека, познавшего все, что ему было нужно.