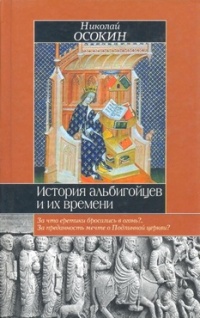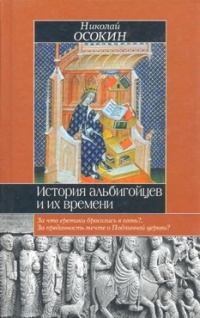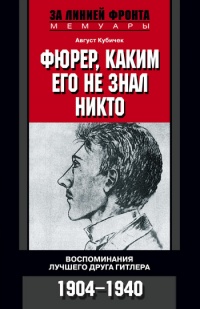Книга Восстание. Документальный роман - Николай В. Кононов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Больше всего я боялся, что привлекут Анну. Вряд ли она им нужна, но все равно страшно — вдруг нас обоих подозревают как шпионов? А вот если собираются вменить не шпионаж, а что-то еще — то дело легкое. То есть как легкое. Если они добыли списки народной армии со всеми псевдонимами, тогда придется доказывать, что я не принимал участие в боях. Я уже проверял Уголовный кодекс и знал, что для не бравших оружие в руки подходит пункт 12 той же самой статьи 58 — пособничество. В том смысле, что обвиняемый знал о готовящихся антисоветских операциях, но не предупредил; от шести месяцев. Это «от» очень настораживало, но все-таки война давно кончилась, к тому же я отказался сотрудничать с эсэсовцами и меня едва не расстреляли. Грачев и другие штабные офицеры, да и кто угодно из строя подтвердят. А если кто-то оговорил меня или чекисты сами сочинили, что я шпион, значит, им это очень нужно и никакой суд не оправдает — вот тогда всё, конец, расстрел или лагерь до гробовой доски.
За оконцем стемнело, когда за мной пришли. Мы с конвойным поднимались вверх, будто из шурфа, до ажурной лестницы и дальше по ней и по коридорам пустынного гулкого здания на второй этаж. Следователь сидел неподвижно как сфинкс. Он был белокож и огромен, вероятно, они специально выбрали его, чтобы подавлять неопытного заключенного, к тому же не самого великого роста. Взглядом он указал мне на стул и продолжал молчать, пока я не сказал: «Здравствуйте». Мой голос оказался отвратительно сиплым. Следователь быстро, дружелюбно кивнул, представился и начал: «А знаете что, Сергей Дмитриевич, вы ведь человек деловой, быстрый, память у вас цепкая, хваткая, в конторе вас характеризуют как одного из лучших руководителей — вот и давайте договоримся: чтобы у нас все шло быстро, будем все вспоминать четко, и тогда наше общее дело закончим быстро, а то сами знаете, в какое время живем». Я понимал, что это нарочито расплывчатые слова — насколько «быстро», что значит «закончим», что будет «потом», — но произносил он их с каким-то внутренним убеждением, что мы, мол, здесь обсуждаем нечто очень важное и стремимся разговаривать объективно, фактически — и поэтому я решил ничего не скрывать. Да и вдруг, правда, произошла ошибка или все происходящее — проверка, провокация. «Сергей Дмитриевич, — продолжил он. — Не скрою, последние полтора года вы были под оперативным наблюдением товарищей из контрразведки. Вы понимаете отчего: вы жили в зоне оккупации, а ведь многих там вербовали американцы. И вдруг вы возвращаетесь — почему? Перед коллегами встал такой вопрос, но за последние полтора года они убедились, что вы не работаете ни на американскую, ни на какую-то еще разведку. Однако остался другой вопрос, уже для нас: почему вы решились вернуться только в сорок девятом?»
В мозгу мелькнуло — «решились», — и я попытался сразу же перебить, но сфинкс царственно вытянул холеную лапу, требуя подождать. «Конечно, мы сами решили найти ответ на этот вопрос, прежде чем тревожить вас, и вот какая нескладуха вышла. В обеих анкетах вы пишете: «В январе 1943 года доставлен поездом из лагеря для военнопленных офицеров г. Сувалки в пересыльный лагерь под г. Каунасом в фортах и оттуда отправлен также поездом в концентрационный лагерь Нацвейлер-Штрутгоф». Выглядит достоверно, но мы навели справки, и выяснилось, что составы с военнопленными из Сувалок ходили в Германию напрямую, ни к чему их было сто километров на восток гонять. А в Каунасе к сорок третьему уже не было никакого пересыльного лагеря. Значит, либо вы выдумали Каунас, либо прибыли туда не из Сувалок и не в пересыльный лагерь, а, например, в штрафной. Выдумывать — глупо, согласитесь? Тогда остается узнать, откуда вы прибыли. Вот в справочках наших упоминалось, что офицерский и общий лагеря в Сувалках играли роль базы для абвера. Я смотрю, вы знаете, что это значит… Подождите. Вот, предатель Гиль, он же Родионов, избач, выбившийся мало-помалу в подполковники, сколотил эсэсовский батальон из таких же русских предателей именно в Сувалках. Не волнуйтесь, мы посчитали, что это было за месяц до вашего прибытия туда. Но спустя месяц после прибытия там же другие фашистские гондоны из числа белоэмигрантов, назвавшие себя Русской народной армией, завербовали сотни бывших красноармейцев. И тут мы спросили себя: не кажется ли подозрительным, что Сергей Дмитриевич утверждает, что из товарищей по лагерю нет никого, кто бы мог подтвердить, что он там был? Неужели все умерли? А как же он выжил? А?»
Отвратительнее и липче, чем в тот момент, я не чувствовал себя никогда. Сначала я понял, что меня отсюда никто не выпустит и если я и выйду, то не скоро — просто потому, что не могут же товарищи следователи проделать столь глубокую работу и остаться ни с чем. Затем мне стало плохо от своего же вранья. Когда-то я поклялся себе не быть рациональным и не преследовать выгоды, не подчиняться и не врать — и вот скользкие пальцы этого самодовольного следователя лезли туда, где я был слаб. Это было настолько больно, что я решил кончить все разом: «Знаете что, — сказал я, — я вам действительно сейчас все расскажу, а потом, если надо, и напишу. Но сначала я хочу удостовериться, что мою семью не тронут». Следователь быстро среагировал: «Кроме обыска, во время которого, кстати, ничего компрометирующего не найдено, никаких действий не предполагается». Я представил Анну и врывающихся бестий с их ухватками, и в глазах у меня бешено закрутились желтые лампы. Сфинкс уже протягивал мне воду. Медленно опорожняя стакан, я еще раз прикинул, зачем им может быть нужна Анна, и немного успокоился — раз не вменяют шпионаж, то, скорее всего, ее действительно не тронут. Разве что используют, чтобы шантажировать меня, но я по крайней мере оттяну время, чтобы они с девочками смогли уехать. Я вдохнул побольше воздуху и сказал: «В Сувалках я умирал от голода и поддался вербовщикам. Они обещали, что народная армия будет заниматься только пропагандой», — и дальше рассказал все, прерываясь, лишь когда визави уточнял фамилии, места и прочее. Сдать кого-либо я не боялся, так как, кроме командиров, почти ничьих настоящих фамилий не знал, а если кого вне штаба и помнил, то по псевдониму.
Стояла глубокая ночь, когда мы закончили. Следователь поколебался немного, обдумывая, видимо, дожимать меня сейчас или потом, и решил не откладывать победу на завтра. «Так что же, Сергей Дмитриевич, — молвил он, — офицер в таком звании не принимал участия в акциях против партизан? Вот сколько их, этих акций». Он выдвинул ящик стола и достал папку со взлохмаченными углами. «Не менее тринадцати разного масштаба за сорок второй год. Вы помогали Грачеву, настоящая фамилия Копылов, планировать и осуществлять эти операции. Известно, что Грачев выезжал на места акций, допрашивал, пытал. А вы? Как дело-то было?»
Я отчетливо увидел, как между моим прошлым и будущим опускается решетка с острыми зубцами, подобная тем, что изображаются в книжках о рыцарских замках. Не оставалось времени проклинать себя за наивное решение быть честным, за высокомерную и недальновидную по отношению к Анне и детям брезгливость, — да и отступать теперь было некуда. «А никак, — ответил я. — Сидел, писал протоколы заседаний, хозяйственные бумаги, характеристики, отчеты об операциях со слов Грачева. Он всегда преувеличивал успехи, чтобы немцы поверили в необходимость дать армии автономию. На деле шкловский батальон разве что прочесывал леса и, если встречал партизан, советовал им держаться подальше и уходил. Осинторфцы принимали участие в боях, но тоже крайне редко. Партизаны к ним разве что в гости не ходили, подкреплялись, иногда даже получали боеприпасы. А вот когда приехали эсэсовцы — тогда все началось всерьез, и я отказался воевать, вышел из строя». Повисла пауза. Он почуял за моим мертвенным спокойствием нечто угрожающее его планам, налился краской и заорал, что верные сталинцы и патриоты должны были стреляться, а коли попали в плен, то бежать и не присягать Гитлеру. Но решетка уже впилась зубьями в пол.