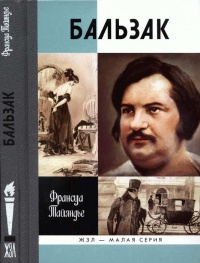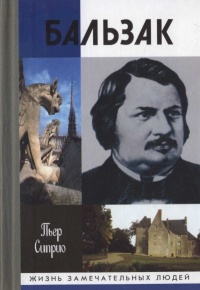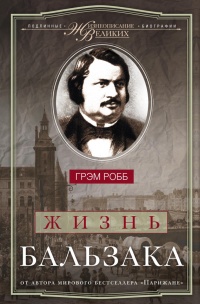Книга Оноре де Бальзак - Анри Труайя
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Ничего не осталось, между тем Бальзак помнил каждое мгновение, рана оказалась слишком глубока. Он сообщает Ганской: «Умерла госпожа де Берни. Не станем говорить об этом. Боль моя не пройдет за один день, она – на всю жизнь. Я не видел ее год, не видел в ее последние мгновения». Гораздо искреннее о своей боли расскажет он таинственной Луизе: «Женщина, которую я потерял, больше, чем мать, больше, чем друг, больше, чем один человек может значить для другого. Она была божеством. Она поддерживала меня словом, делом, преданностью в самые трудные времена. Я жив благодаря ей, она была для меня всем. И хотя последние два года, пока она болела, мы были разлучены, мы не теряли друг друга из виду. Она влияла на меня, была моим нравственным солнцем. Госпожа де Морсоф из „Лилии“ обладает лишь бледным отблеском достоинств этой женщины. Я не склонен делать свои чувства достоянием публики, а потому никто никогда ничего не узнает. Вот так, среди новых ударов пришла весть о смерти этой женщины».
Он был в смятении, а семейные дела требовали его вмешательства. Ни к чему, кроме траты денег, не способный брат Анри в конце концов разорил мать, та призывала Оноре на помощь. В отчаянном положении были и Сюрвили, боялись, что грандиозный проект канала будет отвергнут. Как никогда нуждался Бальзак в женщине, которой можно было бы излить свои беды, которая бы посочувствовала. Он примеряет роль, с которой так умело справлялась нежная Дилекта, на Эвелину Ганскую: «Я назначу вас ее наследницей, вы так же благородны и могли бы написать письмо госпожи де Морсоф, которая – только легкое дуновение ее сильного, ровного дыхания… Умоляю, cara, не приумножайте мои страдания недостойными подозрениями, верьте, что в такой ситуации человека нетрудно оболгать, меня же не заботит, что станут говорить обо мне. То, о чем вы говорите в последних своих письмах, не может иметь ко мне никакого отношения. Ваша склонность верить абсурдным сплетням для меня необъяснима». И чтобы яснее дать понять своей корреспондентке, что хотел бы видеть в ней Дилекту, осмеливается добавить: «Не думаю, что совершаю святотатство, запечатывая этот конверт печаткой, которой пользовался, переписываясь с госпожой де Берни… Я дал обет носить ее». Недоверчивая Ганская вряд ли по достоинству оценила уподобление себя умершей, слишком сильно любимой женщине. Тем не менее сделала вид, что проявляет интерес к его неприятностям. Он рассыпался в благодарностях: «О, cara, продолжайте давать свои мудрые, чистые, бескорыстные советы. Если бы вы знали, с каким благоговением я отношусь к тому, что продиктовано истинной дружбой».
В глубине души Оноре сожалел о замечаниях, слишком резких порой, которые госпожа де Берни оставляла на полях его рукописей, гранок: без колебаний указывала она на коряво написанную фразу, ненужное отступление. Кто теперь возьмет на себя это? Зюльма Карро упорно осуждает его за любовь к роскоши, за расточительность и трату времени на пустяки, сердится, что ведет жизнь, недостойную его таланта. Но ее замечания резки и больно ранят: «Клубы фимиама, которыми вас окутали, дабы вы окончательно ослепли и погубили себя, определенно привели вас в состояние душевного расстройства… Писать во что бы то ни стало. Да разве можно написать что-то достойное, когда у вас почти нет времени на это. Вы говорите, что разорены. Но когда вы начинали, что у вас было? Долги. Сегодня тоже долги. Но как изменились цифры! А сколько вы заработали за эти восемь лет? Уж не думаете ли вы, что подобные суммы необходимы для жизни мыслящему человеку? Неужели его наслаждения должны быть столь материальны? Оноре, какую жизнь вы испортили, какой талант остановили на взлете!».
Дилекта говорила то же самое, но умела смягчить удары. Ганская живет слишком далеко, чтобы рассчитывать на ее помощь в трудные минуты: пока письмо дойдет от нее, обстоятельства сто раз изменятся. Да и потом, она все видит в свете своей ревности, постоянные подозрения искажают ее суждения. Ей незнакомы снисходительность и терпимость, в которых он более всего нуждается. Тем не менее Бальзак продолжает держать ее в курсе своих трудов и забот: «Чтобы осознали пределы моей отваги, должен сказать вам, что „Тайна Руджиери“ написана за одну ночь. Вспомните об этом, когда будете ее читать. „Старая дева“ – за три. „Разбитая жемчужина“, заключительная часть „Проклятого дитяти“ – за одну. Это мой Бриенн, мой Шампобер, мой Монмиреле, это – моя Французская кампания». Спустя три недели еще: «Я работал тридцать ночей напролет и сделал „Разбитую жемчужину“ (для „La Chronique“, и она уже напечатана), „Старую деву“ (для „La Presse“, она должна появиться завтра). И я сделал для Верде „Тайну Руджиери“. В заключение он цитирует свой ответ Россини, изумленному его плодовитостью: „В перспективе у меня для отдыха только гроб. Но работа – прекрасный саван“».
По возвращении из Турина Оноре проанализировал ситуацию в журналистском мире: два журнала, принадлежащие Бюлозу («La Revue de Deux Mondes» и «La Revue de Paris»), закрыты для него после судебного разбирательства, которое он выиграл, «La Chronique», куда он продолжал давать статьи, в состоянии плачевном. Срочно надо было искать другой рынок сбыта своей продукции. В это время появились два новых издания, между которыми разгорелось соперничество: «La Presse» Эмиля де Жирардена и «Le Siècle» Армана Дютака. Зная, что произведения Бальзака могут привлечь читателей, Жирарден постарался забыть об их ссоре и попросил о сотрудничестве: «Вы знаете, мой дорогой Бальзак, что наш разрыв ни на минуту не нарушил во мне чувство нашей когда-то взаимной привязанности… Я действительно расположен к вам и думаю, что сумел вам это доказать, если я заблуждался относительно вас, мне остается только признаться в этом. Тем не менее я к вашим услугам».
Бальзак с готовностью пожал протянутую руку. Он предложил «La Presse» едва намеченную «Старую деву», это стало событием в мире печати – первый французский роман, который по кусочку выходил день за днем. Напряжение читателей не ослабевало, рекламодатели, почуяв выгоду, увеличили поток объявлений. Потребовалось двенадцать выпусков, с двадцать третьего октября по четвертое ноября, чтобы закончить публикацию. После чего произведение вышло отдельным изданием, публика, уже насладившаяся им фрагментарно, в свое удовольствие могла перечитать сразу в полном объеме. Новый метод, опробованный Бальзаком, придется по душе и Александру Дюма, и Эжену Сю. Оноре больше всего понравилось, что при такой форме выхода в свет, когда сроки строго определены, он, невзирая ни на какие обстоятельства, должен был предоставить очередной кусок к следующему номеру. Отныне большая часть его романов будет сначала печататься в ежедневном издании.
Бальзак с невероятным подъемом писал историю старой девы, мадемуазель Розы Кормон, богатой жительницы Алансона, которая в свои сорок два года страдает от затянувшейся девственности, мечтает о детях, беспокойно ворочается по ночам в постели, грустно смотрит в зеркало на свое некрасивое лицо, крупное тело и роскошную грудь. Ее состояние привлекает нескольких претендентов: это шевалье де Валуа, распутный богатый вельможа, и некто дю Букье, бывший армейский интендант, с широкими плечами, импозантный, несмотря на паричок. Мадемуазель Кормон уверена, что этот обеспечит ей потомство, о котором она так мечтает. Но, выйдя за него, обнаруживает, что он импотент. А ведь ею был отвергнут еще один претендент, молодой человек двадцати трех лет, который искренне ее любил, несмотря на то что Роза годилась ему в матери, и находил красоту в ее тучной фигуре. Здесь снова возникает мотив увлечения юного Бальзака зрелой, все понимающей Дилектой. Разочарованный юноша лишает себя жизни, мадемуазель Кормон, став мадам дю Букье, так и остается старой девой и довольствуется тем, что влачит рядом с довольным супругом серую, ничтожную, «животную» жизнь.