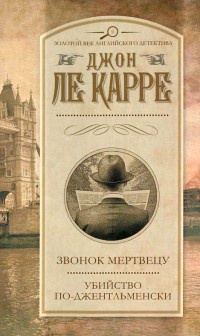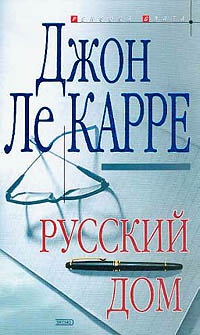Книга Секретный пилигрим - Джон Ле Карре
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Я вылетел из Израиля в Бангкок, потому что Смайли сообщил, что Хансен сошел с ума, что он знает слишком много секретов. Сообщение пришло на имя начальника отделения в Тель-Авиве, и его надлежало расшифровать самому. Смайли тогда возглавлял Отдел безопасности Службы и носил почетное звание заместителя ее главы. Когда бы я о нем ни слышал, он всегда, казалось, только и делал, что затыкал один канал утечки за другим или улаживал какой-нибудь скандал. Я провел жаркий уикенд, пропотев над кипой доставленных нарочным документов, и битый час успокаивал по телефону Мейбл, павшую перед последним препятствием на трассе ее ежегодной гонки за звание капитана женской команды нашего гольф-клуба и подозревавшую интриги.
Не знаю, почему они так относятся к Мейбл. Может, их отталкивает ее простая манера говорить. Я сделал все, что мог. Я сказал ей, что ничто в нашем ведомстве не может сравниться с интриганством этих жен из Кента. Я обещал, что по возвращении устрою ей великолепный отпуск. Не помню, куда мы должны были отправиться, потому что отпуск так и не состоялся.
Досье Хансена обрисовало мне человека, с какими я не раз встречался, поскольку мы немало таких привлекаем. К ним принадлежал и я, да и Бен тоже: англичанин-полукровка, для которого Служба становится приемной родиной и наделяет его несуществующими качествами.
Как и я, Хансен был наполовину голландцем. Может, именно поэтому Смайли остановил свой выбор на мне. Он родился в долгую ночь немецкой оккупации Голландии и воспитывался в тени Делфтского собора. Родители его матери, служащей туристской конторы “Томас Кук”, были родом из Англии, и, когда началась война, они убедили ее возвратиться с ними в Лондон. Она отказалась и вместо этого вышла замуж за делфтского кюре, которого год спустя расстреляли немцы и который оставил после себя беременную жену. Не пав духом, она стала членом английского подполья и к концу войны возглавляла разветвленную агентурную сеть с собственной связью, осведомителями, явками и прочими службами. Сотрудничество моей матери со Службой выражалось практически в том же.
В досье не говорилось, каким путем младенец Хансен попал к иезуитам. Возможно, мать переменила веру. То были еще темные годы, и, если того требовала обстановка, она могла поступиться своими протестантскими убеждениями во имя приличного образования ребенка. Подари иезуитам его душу, могла рассуждать она, и они наделят его умом. Или она уже тогда распознала изменчивую натуру своего сына, которая правила всей его жизнью, и решила подчинить его более строгой религиозной дисциплине, чем у благодушных протестантов. Если так, то это была мудрая женщина. Хансен набросился на веру, как набрасывался на все, – со страстью. Он побывал у монахинь, у братьев-монахов, у священников и у ученых. Затем, когда ему исполнился двадцать один год, его, обученного и набожного, но пока еще послушника, отправили в семинарию в Индонезии, чтобы познакомить с обычаями неверных на Суматре, Молуккских островах и на Яве.
У Хансена, как и у многих голландцев, Восток, казалось, вызывал чувство инстинктивной любви. Истинный голландец, подобно знаменитой сосне Гейне, может стоять среди плоской равнины на своей маленькой родине и вдыхать азиатские ароматы лимонной травы и кухонных горшков, принесенные свежим морским ветром. Хансен пришел, увидел и был побежден. Буддизм, ислам, ритуалы и предрассудки дикарей в самых отдаленных уголках – он набросился на все это с рвением, возраставшим по мере того, как он углублялся в джунгли.
Языки тоже давались ему легко. К его родным голландскому и английскому он без труда добавил французский и немецкий. А теперь он овладел тамильским, кхмерским, санскритом и знал даже немного кантонский диалект, проходя порою сотни миль по холмистой местности в поисках недостающего диалекта или ритуала. Он писал работы по филологии, о свадебных обрядах, рукописных заставках и обезьянах. В дебрях джунглей он обнаруживал храмы и завоевывал награды, которые его Общество запрещало принимать. Через шесть лет бесстрашных исследований и поисков он стал не только образцом учености у иезуитов, но и настоящим священником.
Но какой секрет может продержаться шесть лет? Постепенно стала выходить наружу изнанка его жизни. Хансен – художник до мозга костей. Аппетиты Хансена. Не оборачивайтесь, но вот идет одна из девиц Хансена.
Погубили же его масштабы и длительность: как только началась проверка, оказалось, что в его жизни нет нетронутого уголка, нет дороги без перекрестка. Женщина там и здесь, а то и мальчик или два, в общем, каких только верований не нагляделся я на земном шаре, каких только священнослужителей не повидал я на своем веку, но подобное греховодничество скорее связано с подчинением вере, чем с ее нарушением.
Эта всепоглощающая слабость в каждом кампонге, в каждой улочке, это ненасытное беспутство процветали, как теперь известно, у них под самым носом больше десятка лет с участием девочек, которые, по западным меркам, едва достигли возраста первого причастия, не говоря уж о супружеском ложе, – многие, кстати, находились под защитой церкви, – из-за всего этого Хансен вдруг стал драматично беззащитным. Имея перед собой доказательство столь длительного и самозабвенного греха, отец-игумен скорее опечалился, чем возмутился. Он велел Хансену возвратиться в Рим, предварительно направив письмо руководителю Общества. Из Рима, сообщил он Хансену с грустью, его, вероятно, отправят в Лойолу в Испании, где квалифицированные психотерапевты помогут ему справиться с его достойной сожаления слабостью. После Лойолы… в общем, начнем с самого начала, возможно, в другой части света еще одно, не похожее на это десятилетие.
Но Хансен, как и его мать прежде, упрямо отказался покинуть свою вторую родину.
В растерянности отец-попечитель отправил его в отдаленную миссию в горах, руководимую традиционалистом суровой школы. Там Хансену пришлось испытать варварство домашнего ареста. За ним следили, как за безумным. Ему запрещалось покидать пределы дома, ему не давали книг и газет, запрещали веселиться и заводить приятелей. Мужчины по-разному относятся к заключению, как по-разному реагируют на высоту, холод или смерть. Хансен реагировал на это ужасно и через три месяца больше не мог этого вынести. Однажды, когда два его брата-попечителя сопровождали его на мессу, он столкнул одного из них с лестницы, а второй убежал. Затем он перебрался в Джакарту и, не имея ни денег, ни паспорта, ушел в подполье в борделях, которые хорошо знал. Девушки стали о нем заботиться, а он выполнял обязанности сутенера и вышибалы. Он подавал пиво, мыл бокалы, вышвыривал буянов, выслушивал исповеди, помогал, кому нужно, играл с детьми в задней комнате. Я представляю, поскольку теперь знаю его, как он выполнял все эти свои обязанности – просто и без суеты. Ему недавно минуло тридцать, и его желания горели ярко, как никогда. Но вот в один прекрасный день, поддавшись какому-то порыву, Хансен побрился, надел чистую рубашку и предстал перед британским консулом, чтобы востребовать свою британскую душу.
Консул же, не страдавший отсутствием ни зрения, ни слуха, был давнишним сотрудником Службы; он выслушал рассказ Хансена, задал для видимости пару вопросов и, прикрывшись маской безразличия, резво приступил к делу. Уже много лет он искал человека со способностями Хансена. Его замашки нисколько консула не смущали. Ему это нравилось. Он затребовал из Лондона данные на Хансена; понемногу он стал одалживать ему небольшие суммы денег под расписку в трех экземплярах, потому что не хотел обнаруживать свой энтузиазм. Когда же Лондон ответил, что у матери Хансена – белая полоска, означавшая, что она прежде была агентом Службы, чаша весов перевесила в пользу Хансена.