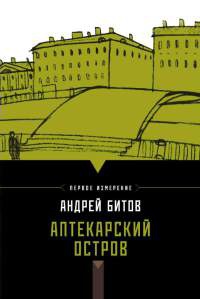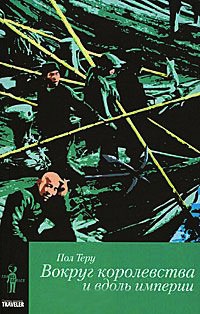Книга Книга путешествий по Империи - Андрей Битов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Но ведь мы все до этого уже изучили?
— Но у птицы есть глаза, крылья, птичий мозг есть у птицы?
— Скажите, — рассмеялся доктор, — вы никогда не были двоечником?
— Был, — согласился я.
Вот так выходил я на море либо чтобы застать на берегу только что вышедшего на берег доктора, либо он выходил следом за мною, заспанный, проведший бессонную ночь в расчетах. Не складывались его цифры, молчали мои буквы — не здороваясь, мы продолжали вчерашний разговор.
Я потерял всякий стыд. Я отдавался тщеславию быстро-схватывающего ученика. Я задавал ему вопросы, не заданные в раннем детстве. Может, я и не получал на них ответа, но от комплекса освобождался. Все те вопросы, без ответа на которые я отказывался понимать дальше и получал неуд. Больно ли насекомому? думает ли птица? чувствует ли дерево? есть ли у зверей чувство юмора? куда подевались промежуточные эволюционные звенья (то есть почему человек бежал по этой лестнице через ступеньку)? прекратилась ли эволюция и почему? чем питается такое количество комаров в мое отсутствие? можно ли без ущерба удалить паразитов из биологической цепи? есть ли наружные половые органы у птиц? И все это довольно быстро сводилось к какому-нибудь из коварных вопросов, которые, в свою очередь, сводились к одному: что есть человек?
И не было ответа на этот вопрос. Одни косвенные оговорки.
— В том смысле, в каком вы хотите, — сказал наконец доктор, — ответа и быть не может. Человек равен самому себе. На большее он не способен. Что такое человек, мог бы знать один лишь Бог, если бы он был.
— Вы уверены, что Его нет?
— Думаю, что Его не было.
Я открыл было рот еще дальше — он сказал:
— Не будем говорить о Нем всуе. Эта заповедь не противоречит науке.
Я слаб насчет полезных сведений… Все, что он знал как специалист и что я мог почерпнуть от него с точностью, пролетало сквозь меня, навылет. Меня всегда интересовало, как в конфеты «подушечки» варенье кладется…
То, что я от него узнал по делу, вполне могло уместиться на какой-нибудь задней обложке «понемногу о многом» или «ничего обо всем». Кажется, в Новой Зеландии водится некая птичка, которая в брачный период строит на земле домик с дверью и, ухаживая за самочкой, приходит на свидание с цветочком в клювике. Или что птицы раньше людей всегда знали, что Земля шар, в то же время азимут во время перелета птицы берут из допущения, что Земля — плоская (может быть, я уже перепутал…). Или что птицы не болеют…
Последнее я пережил несколько с большим вживанием, чем прочие занимательные сведения… Это утверждение пришло в полное противоречие с другим, накануне поглощенным мной (я, естественно, все принимал на веру), а именно: что все птицы больны, что нет небольной птицы.
— Это только кажется, что птицы весело порхают, — с долей элегичности сказала мне сотрудница Н. (она возвращалась с ловушек и несла в специальном плоском ящичке, затянутом сверху сеткой, с фоторукавом на входе, трепыхающийся улов). — Это сверху — перышки и чистота. Подержал бы кто-нибудь их, как мы, в руке — увидел бы, что они кишат, бедные, паразитами, покрыты болячками и травмами…
Эти тяготы за внешним покровом легкости (еще бы — парят!) вызвали во мне доверие и сочувствие. Доктор пояснил мне мое недоумение: это все внешнее, и это так; птицы не болеют в том смысле, как другие теплокровные, в том числе и мы: они не болеют с температурой, ей некуда повышаться. Тут я понял в полной мере те 42 градуса, немногое из того, что помнил со школы: птицы живут на пределе (цена полета…). Их обмен протекает на пределе интенсивности, возможной для теплокровного. Они все в горячке и лихорадке. Наше легкое 37,5 — это их 43, то есть смерть. Вот в каком смысле не болеют птицы.
Мне представилась действительная теснота жизни, на которую каждый из нас жалуется с такой интенсивностью именно, чтобы не представлять себе полную меру (наши трудности все — временные, нам не хочется представлять себе, что они и есть норма, что бывает, например, война, когда люди не болеют почти как птицы). На этой редчайшей Земле, где кислород разведен ровно в той мере, которою мы можем дышать, где нам еще с грехом пополам хватает пресной воды, еще и температура тела заключена в узенький, как луч, диапазон, где Т° 42°. Все это пространство поделено и переделено на ниши и ареалы, где нам, летая и глотая с утра до ночи, еле хватает пищи продержать эти 42 (37) градусов, где переостыть или перегреться, как недоесть и недопить, — смерть. Все это вплотную и впритык, все пересечено и взаимосвязано так, что, если бы было время оторваться от насущности прокорма, когда твое существование необходимо кажется тебе единственным, и задуматься, то и не смочь отделить свое существование от другого, и отдельное ли ты тело или сросшаяся часть общего, так и не скажешь наверняка.
Вот — птица. Это большая птица. Загляните ей в растопыренный глаз — вы не встретитесь с ней взглядом. Это у маленьких пташек те живые бусинки, что кажутся нам понятными. У этой — дикий, ужасный, красный глаз. Это в небе она красива («то крылом волны касаясь…») — здесь, в руке, она уродлива и страшна. Она — настолько не мы, что ни в какой грех антропоморфизма тут не впадешь.
Это была чайка (сотрудники спорили, определяя ее вид). Чайки не попадают в ловушки. Ее принес мальчик Саша, юннат, приобщавшийся к будущей профессии на биостанции. Он был розов, круглощек, черноглаз, юн, здоров, любим мамой. Чайка была потрясающе на него непохожа. Он был возбужден и без конца повторял свой рассказ.
Как Иван-дурак жар-птицу, он поймал эту чайку руками. Прыгнул, как вратарь, и поймал. Честное слово! Он шел по берегу моря, вся стая снялась, а эта сидит. Он прыгнул. Правда, руками… Он сам в это не верил: мыслимое ли дело, человек, который ловит руками чаек!.. Подвиг его таял в собственных глазах. Никто его не осудил, но никто и не одобрил. «Я ее два часа нес!» обиделся он.
— Так она же с голоду подохнет! — сказал кто-то. Это предположение повлекло за собою немедленные действия…
(Я часто про себя отмечал некоторую достойную несентиментальность практических дел (и это мне, уже более сентиментально, всякий раз нравилось). Так сотрудники полевого стационара, сами питаясь весьма однообразно (каши и концентраты), каждый день варили и крошили яйца, терли морковь и т. д., чтобы кормить своих пернатых пленников тем, чего сами не ели. Они напоминали родителей, дети которых никогда не выйдут из детского возраста. Или, например, каждый из них без малейших угрызений совести распотрошит птичку для своего бессмысленного эксперимента, однако, если случится какая непредусмотренная потрава, они чрезвычайно досадуют и огорчаются. Однажды в ловушку залетело слишком много птиц, их не успели освободить, и много птиц погибло — так они их съели! Дело не только в некотором профессиональном шике, в подчеркнутой небрезгливости к живому, в профессиональной свободе от обывательских представлений — они способны съесть и ворону и лисицу (отравленного или несъедобного мяса нет! — еще одно периферийное открытие, сделанное мною для себя в их среде: памятка на случай голодной смерти в лесу — чего не бывает!..), — дело еще и в, пусть неосознанном, искуплении вины перед природой, в которой ничто не гибнет напрасно. Они превратили этот прецедент в охоту (волк не кровожаден, а голоден, добывая себе пищу…), они искупили вину, ритуально вписав свою оплошность в экологическую систему, сделав вид, что птиц этих они добыли для живота своего…).