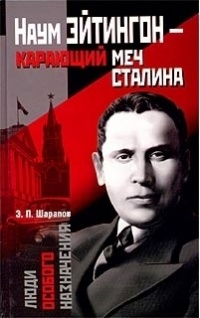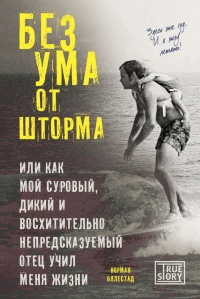Книга Последние капли вина - Мэри Рено
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Был у него любовник?
Я ответил, что нет, только подружка, маленькая флейтистка.
– Я ей отвезу какую-нибудь его вещь на память, - добавил я. - Думаю, ей захочется сохранить что-то.
– Зачем? - возразил Лисий. - Что у них было - то было.
Когда мы вернулись, он зашел выразить почтение моему отцу, и они немного поговорили о войне. Наконец отец спросил:
– Алкивиад, я полагаю, все еще среди спартанцев? Трудная жизнь теперь должна ему казаться легкой.
– Уже нет, - отвечал Лисий. - Он теперь от нее отдыхает - он сейчас в Персии.
Мы получили это известие уже несколько месяцев тому назад, но я не упоминал о нем - не пришлось к слову. Отец спросил, уставясь на Лисия:
– В Персии? Как его захватили? Чем он занимался, что попал в руки к варварам?
– Ну-у, - протянул Лисий с улыбкой, - попал он, как кот в чашу со сливками. В Спарте для него сделалось слишком жарко: царь Агис издал указ о его казни. Но, говорят, сатрап Тиссаферн о нем чрезвычайно высокого мнения, а персидские князья рядом с ним выглядят тускло, как петухи рядом с фазаном.
– Вот как?.. - пробормотал отец и перевел разговор на другую тему.
В тот вечер, проходя через двор, я заметил его там - он бросал какие-то битые черепки в колодец. Назавтра я обнаружил у ограждения колодца маленький осколок. Рисунок на нем выглядел так изящно, что я не поленился нагнуться; там был нарисован бегущий заяц и протянутая рука. Это был обломок чаши для вина работы Вакхия.
Если я и догадывался, что обстановка в доме станет теперь нелегкой, то старался отгонять такие мысли, ибо считал постыдным делом дуться на человека, который столько выстрадал. Но надолго выдержки моей не хватило. Первой причиной неприятностей оказалась маленькая Харита. Будь она на год-другой старше, ей удалось бы что-то объяснить. Но девочку воспитали на историях о красоте ее отца и его доблестных деяниях; я часто видел, как она показывает пальчиком на какого-нибудь героя на вазе или на стене, а то даже на бога, и лепечет: "Дада". А теперь вместо красавца и героя ей показывают уродливого и сурового старика; думаю, никогда потом у нее не восстановилось прежнее доверие к людям. Через добрых четырнадцать лет после этих событий, когда я устроил ей обручение с прекрасным человеком, она невозмутимо слушала все мои рассказы о нем, пока не увидела его своими глазами; я даже изрядно злился на нее - пока не припомнил это время. Отец как будто не сомневался, что его письмо пропало, и наверное отнесся бы к ней снисходительно, если бы она день ото дня не обижала его своим отвращением. Это было плохо само по себе, но дело еще усугубляла радость, с какой она кидалась ко мне. Ее невозможно было заставить сказать ему "Дада", и это тем сильнее бросалось в глаза, что меня она звала "Лала", едва научившись лепетать. Я сразу начал отучать ее - и слышал, как мать делает то же самое.
Я понимал, что по сравнению с матерью могу считать себя счастливцем. Казалось, следовало ожидать, что после стольких мук и лишений простые удобства жизни покажутся ему благословением; но он не мог снести малейших отступлений от обычаев нашего прежнего быта. Мать вынуждена была объяснять ему, в чем дело, почему так не хватает у нас рабочих рук. Он вроде бы и соглашался, но примириться не хотел. Она мне никогда не жаловалась и вообще всего лишь раз затронула эту тему: когда попросила не упоминать, что за время его отсутствия я научил ее читать. Она училась легко и быстро, уроки эти были для меня радостью - и для нее, думаю, тоже. Сейчас она могла даже читать поэзию, хоть и не сложную, и я понемногу начал обучать ее письму. А теперь нам редко предоставлялась возможность хотя бы просто поговорить, потому что он не переносил, если она пропадала из виду, и вечно начинал ее звать, когда она отлучалась надолго.
Я старался гнать от себя эти думы, ибо они причиняли мне боль и я огорчался, что не могу владеть собственными мыслями. Через некоторое время я заметил, что не могу смотреть, как она перевязывает ему ногу вечером, перед тем как лечь спать, и завел привычку уходить из дому и бродить по улицам.
Даже Лисию я не мог рассказать многого. И не только потому, что догадывался, какими недостойными покажутся ему мои чувства. Имелась и другая причина. Последнее время мы с ним были не так счастливы, как прежде. Я мог понять, что после Игр он должен быть в подавленном состоянии; но когда в нем вдруг обнаружилась ревность, меня это просто озадачило. Я был слишком молод и еще не научился понимать такие вещи; я знал лишь, что не давал ему повода для ревности даже в самых мимолетных своих мыслях. Меня до глубины души обижало, что он может подозревать во мне такую низость - будто я переменился к нему из-за его поражения; но упрекнуть его в этом казалось мне еще большей низостью. В прошлые времена никто не умел достойнее него воспринимать поражение, нанесенное ему лучшим; и у меня в голове не укладывалось, почему так глубоко задело его, что он побит худшим. Я ощущал только собственные обиды - как глупый крестьянин, который, когда землетрясение сбросило крышу с храма, жалуется, что у него разбился горшок.
Пойди я со своими тревогами к Сократу, он бы не только помог мне, но нашел способ помочь и Лисию тоже. Но все это у меня в голове перепуталось с другими делами, такими, о которых я не мог сказать никому.
Дед Стримон первый раз навестил отца, когда я был на в дозоре со Стражей. С тех пор как я достиг возраста, он мало тревожил нас, так что я и думать о нем забыл. И только постепенно стало проявляться зло, причиненное им. Сперва отец вытащил все свитки с деловыми записями и счетами по усадьбе - и не нашел к чему придраться в них, кроме разве ошибок. Нетрудно было догадаться, откуда он получил ложные сведения, и вскоре я это дело прояснил, но по-прежнему видел, что он недоволен. И снова, пока меня не было в Городе, к нему заглянул Стримон. Сразу после этого отец обвинил меня, что я общаюсь с дурной компанией. Как только прозвучало имя Федона, я тут же понял, кого надо благодарить.
– Отец, - сказал я, - Федон - с Мелоса. Ты яснее меня понимаешь, что он не сам выбрал себе судьбу. Происхождение и воспитание у него не хуже нашего, и сейчас он живет, как тому подобает. Ведь не станешь ты осуждать пленника за жребий, который выпал ему на войне?
Видно, я задел его за живое. Он рассердился и, упомянув Сократа, сказал о нем такое, чего из уважения к мертвому я не напишу здесь даже через столько лет.
А еще через несколько дней я застал мать за ткацким станком всю в слезах. Рядом никого не было, и я умолял ее рассказать, что случилось. Но она только покачала головой и ничего не ответила. Я подошел к ней ближе, так что одежды наши задевали друг друга, а на лице я ощутил легкое прикосновение ее пышных волос. Мне хотелось обнять ее, но внезапно возникло смущение; я сдержал готовый вырваться вздох и молча застыл. Она не поворачивалась ко мне, пытаясь скрыть слезы. Наконец я промолвил:
– Матушка, что же мы будем делать?
Она снова покачала головой и, чуть повернувшись, положила руку мне на грудь. Я накрыл ее ладонью и через ее пальцы почувствовал удары своего сердца. Она начала было мягко высвобождать руку - и вдруг быстро и резко оттолкнула меня. Тут и я услышал снаружи стук отцовской палки. Я стоял, словно оцепенев; мне невыносимо было оставаться, но и убежать я не мог пока не услышал ее голос: она отсылала меня с каким-то поручением по дому. Выходя, я услышал, как он резким тоном спрашивает, чем она обеспокоена.