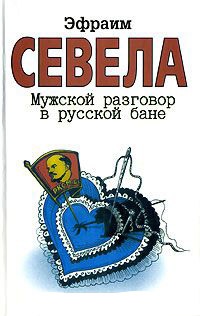Книга Тибетское Евангелие - Елена Крюкова
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
…ближе!
Закрыл глаза и шагнул.
Свет (вошел) в Свет.
Мое сердце (легло) на его сердце. Мои руки (вошли) в его руки. Мои ноги (вошли) в его ноги. Моя голова (вошла) в его голову. Мой живот (вошел) в его живот. Мои чресла (стали) его чреслами. Мой Свет (слился) с его Светом и не находил никакого зазора.
И (ушел) страх.
Страх вышел и исчез во мраке.
…ты в круге Света, услышал я голос, ты со мной; ты во мне; ты с собой; ты в себе. В огненную купель (вступил). Огнем крестился. (Свет) не узришь: сам Им стал. Идолам не молись: все идолы ничто (перед Светом). Посвящаю тебя в себя. Стал собой! Пришел к себе. Ты — Человек. Ты — Бог. Ты — жизнь. Ты — (смерть). Вдох. Молчанье.
…ты — Свет!
Понял: это я сам говорил. Голос свой слышал.
Где Аватар? Где монах мой, (поводырь)?
Один, и тьма вокруг. (Никогда не вернусь) больше в мир людей.
Не боялся. Если так суждено — пусть так будет.
…не выйдешь из круга Света, но унесешь Свет (с собой). Излечи Светом (болящих)! (Прости) Светом осужденных! Обними Светом (лишенных) любви!
Помни: любовь — в ненависти, а ненависть — в любви.
Тьмы не бойся: Тьму (побеждаешь Светом), ибо Свет (пронизывает) Тьму и без нее не может жить.
Брахма выдохнет и снова вдохнет. Явится (вечный мрак). И ты вновь Свет родишь.
И крикнешь на (всю Тьму): да станет Свет!
…дрожал. Или Свет, излучаемый мною, дрожал?
Таково было мое посвященье.
Не помнил, как выбрался (из пещеры). Держал ли опять за руку (монаха)? Как шли? Заблудились (в горах)? Жгли ли костер, чтобы замерзшие (в ночи руки) погреть?
Ночь обнимала, и шли. Запомнил лишь (тропу). Стелилась под ноги.
Змеей с высоких гор ниспадала, уходила в долину.
Она все-таки ушла, Лидия моя. Ушел мой ясный сон.
Ушла белая девочка моя, легко по воде ступая.
А я, счастливый такой, сидел на берегу, и губы мои дрожали в ожидании песни.
А почему бы не спеть? Никого тут нет. Никто меня не услышит. Разве что кедры. И белки.
Я пел одинокую песню и вспоминал время, когда я жил тут, на Байкале.
Тут родила меня мать моя. Деревня наша называлась Коты. Коты и Коты, и должно было жить тут много котов и кошек! И жили; и в морозы пушились, на снегу сидели, серые, рыжие колобки.
Мать работала в сельмаге. Отец рыбалил. Потом устроился на железную дорогу. Приходил домой — от одежд несся, настигал меня страшный, мрачный запах мазута. Нюхал отцовскую робу и рукавицы и видел рельсы, и синие огни в черной ночи, и покрытые ледяными хвощами окна вагонов.
И слышал дальние крики; и видел кровь на рельсах, и яркий свет в глаза, и успокаивал себя: это рабочие красное вино пили, на рельсы, на снег разлили.
Потом отец бросил это дело, железнодорожное, устал быть обходчиком, и залезать с фонарем под вагоны, и железкой стучать по колесам и буферам, и подался в заповедник: рядом с Котами, на берегу Байкала, был тогда заповедник, заказник обширный, и водились там лоси и медведи, соболя и росомахи. А в Байкале по льдинам, между весенних торосов, прыгали веселые нерпы с большими глазами.
Такие огромные, как у нерп, глазищи я, малек, видел только в церкви на иконах.
Мои мать и отец неверующие были. Вместо иконы у нас в красном углу картина висела: усатый дядька во френче, с трубкой в зубах. А на избе, на коньке крыши, отец в праздники вывешивал красный флаг.
Красный флаг меня пугал. Мне чудилось: птицу в небе ранили, и она летит, а ее кровь по ветру летит за ней.
Я любил глядеть на Байкал. Смышленый я парнишка был. Если б выучился — ох, иная судьба ждала бы! Да те, кто ждал меня в обнимку с судьбой там, давно, не дождутся уже.
В заказнике отец помогал лесничему. За тайгой надзирал. Любил он тайгу, и зверье в ней любил. Мне это все передалось. Не могу зверя видеть спокойно. Родство с ним чувствую. Вот и сюда пришел-вернулся… зачем? Может, надоело мне быть человеком, и Иссой быть надоело, и зверем хочу стать, в зверя вернуться, на шею, на холку черную медвежью шкуру, серую волчью — примерить?
Отец умел стрелять. И убивать умел. Но не убивал зверье. Не стрелял во птичек.
Он погиб в заказнике страшно и глупо: его задрал медведь-шатун, а у него не было при себе ружья.
Мать плакала в голос. Как пела.
Валялась на гробе, на снегу стоящем, и длинные седые волосы свисали, снег мели.
А гроб красным флагом укрыли. Ярко-красная отцова домовина так и стоит перед слепыми глазами.
Отец, ты погоди меня! Скоро приду. Обожди чуток!
Мать, и ты не плачь. Я скоро. Вот он я.
И так я пел, и обжигало дыхание мое мне на морозе губы:
Звери и птицы, птицы мои!
Вы мое чудо! Чудо любви!
Как же мне больно, больно мне жить —
Как же мне горько на свете быть!
Боль, исчезай! Боль, уходи!
Серого волка прижму ко груди!
Черный медведюшка, ты не серчай —
Ждет нас с тобою Господень Рай!
В том-то Раю — птицы поют!
В том-то Раю — кедры растут!
Ласковый соболь сидит на руках!
Нерпа ныряет в синих волнах!
Я-то старик, да я старичок —
Жизнь лишь шажочек, пятка-носок!
Только оставил след на снегу!
Только к любимым, милым бегу!
Перевел дух. Облизнул рот. Руки мерзли, коченели. Поднимался ветер. Поземка обвивала ноги. Босые, загорелые ноги мальчика Иссы. Мотала край нешвенного хитона его.
На берегу пришел постоять.
Я на Байкал пришел умирать!
Милые звери, рыбы мои,
Птицы мои, люди мои…
Вы мои люди, люди мои…
Вы мои люди… люди мои…
сохранившийся пергамент
Мы вступили в землю Варанаси, где весной на вспаханном поле приносят в жертву богу плодородия маленького несчастного ребенка; где корову увенчивают золоченой короной и связкой алых крупных цветов, а по небу летают птицы величиною с лодку-долбленку, а на спине той птицы могут свободно уместиться мальчик и девочка.
И видели мы летающих в синем небе птиц; и сидели дети на спинах их и смеялись.
Еще земля эта знаменита тем, что здесь заключали тайный и преступный брак между ирбисом, снежным барсом, и юной дочерью Царя Перелетных Птиц.