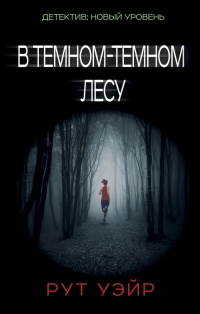Книга Священная ложь - Стефани Оукс
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Кажется, я кричала. Впрочем, меня никто не слышал, потому что в ту минуту орал весь мир: голосили в ужасе люди, потерявшие своего пастыря, визжало пламя, пожиравшее плоды многолетнего труда, выли деревья, в которых закипал сок, вопили крошечные зверьки, очнувшиеся от зимней спячки оттого, что шкура вспыхнула огнем.
Много часов спустя, когда я спустилась с горы, небо покраснело от солнечного света. Белыми мотыльками полетели снежинки, и одна за другой без единого звука погасли звезды.
– Мы обнаружили тело Констанс под развалинами, – сообщает доктор Уилсон.
Я киваю.
– Можно кое-что сказать? – спрашивает он, поправляя очки на носу.
– Как будто вам нужно мое разрешение…
– Просто хочу, чтобы ты знала: это нормально – чувствовать себя виноватой.
Я вскидываю голову.
– Что?
– Ты прошла через сущий кошмар. Я не стану заверять тебя, что ты не должна испытывать чувства вины. Хотя твоей вины ни в чем не было. Потерять руки, лишиться детства, пережить смерть сестры…
– То, что Констанс ум… – Я сглатываю комок желчи. – То, что ее нет, – это моя вина.
– Я понимаю, почему ты так думаешь. Однако в этом нет смысла. Из-за горя ты судишь неправильно. Ты осознаешь, что за все эти месяцы ни разу не признала вслух, что она мертва?
– А почему важно признать вслух?
– Тогда ты сумеешь принять эту мысль. И жить дальше.
– Жить дальше? – Кровь приливает к лицу так, что вены едва ли не лопаются. – Вы вообще понимаете, что несете? О сочувствии никогда не слышали? И хоть слово разобрали из того, что я вам говорю? Или просто сидите в своем дорогом костюмчике с заколкой для галстука…
– При чем тут заколка для галстука? – со смехом спрашивает доктор Уилсон.
– Потому что люди, способные на сочувствие, такие штуки не носят!
– Почему? – Доктор Уилсон улыбается, словно это шутка, и я вскипаю еще сильнее.
– Ничего вы не понимаете! Если понимали бы, то не советовали мне жить дальше. А давайте вы сами будете жить дальше, а? Возращайтесь в свой Вашингтон к красивой жизни в дорогущем доме, напичканном всякими штуковинами, от которых тепло на душе. Гуляйте с женой в пафосных ресторанах, давайте сыну машину на выходные… так заведено у хороших родителей? И забудьте про меня с Пророком, потому что он наконец сдох и все остальные тоже рано или поздно сдохнут.
– У тебя хорошая интуиция, Минноу. Ты меня раскусила. В одном только ошиблась. У меня нет сына.
Я трясу головой.
– Есть. Вы сами говорили. Он любит Томаса Харди. И его зовут Иона.
– У меня был сын по имени Иона, – доктор Уилсон кивает. – А теперь у меня нет сына по имени Иона. Вот и всё.
Воздух сгущается, как бывает в лесу за мгновение до удара молнии.
– Поначалу я очень часто говорил себе эти слова. Повторял как мантру. «У меня был сын по имени Иона. А теперь у меня нет сына по имени Иона. Вот и всё».
– Что с ним случилось?
– На шестнадцатилетие я купил ему машину. Ты даже здесь догадалась. Какая ты все-таки молодец… Кэрол – моя жена – была против. Иона только что получил права, и все видели, что он не готов сидеть за рулем. Но я все равно купил, потому что у него был день рождения, а я мог позволить себе такой подарок. В тот же вечер Иона на полной скорости влетел в дерево.
В комнате становится тихо, по-настоящему тихо. Я отвожу взгляд и спрашиваю:
– И как вы справились?
Доктор Уилсон пожимает плечами.
– Кто бы знал… Может, время лечит. Или привыкаешь.
– Ничего время не лечит, – говорю я.
– Ты чертовски права. – Он потирает лоб. – Знаешь, в твоем возрасте я учился в Париже…
Я поднимаю на него глаза.
– Правда?
Он достает из заднего кармана бумажник.
– Ношу эту фотографию с собой с тех пор, как погиб мой сын. Пропуск в парижскую школу, снимок сделали в первый день.
Двумя пальцами протягивает мне фотографию. На ней доктор Уилсон гораздо моложе, у него копна густых лохматых волос и рубашка с полосатым воротничком. Он стоит на улице перед полукруглым желтым зданием из камня. Я переворачиваю снимок. На обратной стороне аккуратными буквами выведено: «Дарвин Нил Уилсон».
– Вас зовут Дарвин?
Тот пожимает плечами.
– Больше предпочитаю второе имя.
Я возвращаю ему фотографию.
– И при чем тут Париж?
– Что ты знаешь про парижан?
Я задумываюсь.
– Они много курят.
– Да, есть такое. Тогда еще разрешалось курить в барах. И когда ты заходил, внутри все было затянуто синей пеленой дыма. Я сидел один за барной стойкой, озирался по сторонам, слышал чужие голоса, перекрикивающие друг друга, видел людей в незнакомой одежде с непривычными лицами. И вдруг понял, что на самом деле это я для них чужой. Это я там совершенно не к месту. С горем то же самое – оно заставляет чувствовать себя чужим. Когда я потерял сына, то, считай, получил гражданство другой страны. Люди, с которыми я общался каждый день, говорили на чужом для меня языке, только не понимали этого. Потому что это я стал другим. Я сидел у себя в кабинете, слушал их разговоры и сознавал, что никогда не стану таким же, как они. А знаешь, что самое странное?
– Что?
– От этой мысли было легче. Поэтому я стал носить с собой фотографию из Парижа – чтобы помнить это чувство. Быть другим – приятно. Так я становился ближе к сыну. Ярче осознавал свою вину. Беда в том, что, когда поднимаешь голову и оглядываешься, все уже не так, как прежде. Вещи поменялись местами, а люди ушли.
Доктор Уилсон вертит фотографию в пальцах.
– Скорбь вовсе не сближает тебя с мертвыми, – произносит он наконец. – Так только кажется. Ты себя обманываешь. Если встанешь, оглянешься вокруг, посмотришь на мир живых и начнешь снова жить, они все равно будут рядом.
Он роняет фотографию в стальной унитаз, полный воды, и дергает за рычаг слива.
Я гляжу, как юный Дарвин на фото крутится и исчезает в канализации.
Опускаю подбородок на грудь.
– Констанс умерла.
– Вот и всё.
– А что будет с Вейлоном? – спрашиваю я.
Доктор Уилсон пожимает плечами.
– Мы ищем его уже несколько месяцев. Он был подозреваемым с самого начала.
Я удивленно выпрямляюсь.
– А мне почему не говорили?
– Ждал твоих откровений.