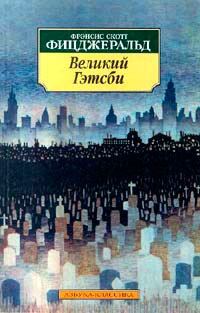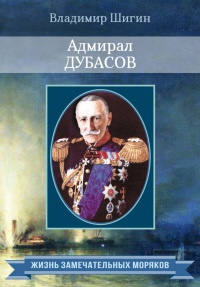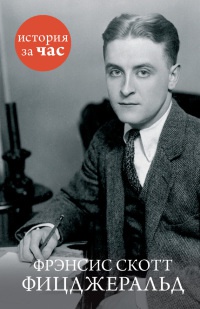Книга Завещание Шекспира - Кристофер Раш
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Уилль! Ты разлиль вода!
Руки мои дрожали, расплескивая серебристую воду через края таза, который все еще был между нами. Чтобы унять дрожь в руках, я схватился за него еще крепче, и он стал колышущейся сетью света и тени. Мы глядели в него, как в колдовской круг, в котором можно было прочесть наше будущее. Жаклин Вотролье мерцала при свете свечей, как призрак.
– Жаклин, – сказал я, – я английская мошка, которая летит на твой французский огонь, и я счастлив в нем сгореть.
– Уилль!
Когда б теперь мне умереть пришлось!
– О Уилль, ти не должен говорить мне таки весчи.
Мы продолжали стоять, как два континента, разделенные волнами моря, – Франция и Англия, глядящие друг на друга, и надежда снова реяла в воздухе. Ее речь казалась мне щебетаньем птицы.
– Уилль, поставь же таз, s'il te plait, прошу, поставь!
– Жаклин, прекрасная Жаклин, скажи что-нибудь еще на своем ломаном английском. Твой голос – музыка.
Она улыбнулась белозубой улыбкой. Я вспомнил чесночное рыло старика Вотролье, с обломками почерневших зубов – теми несколькими оставшимися в живых обелисками, похожими на стоячие камни, – и его собачье дыхание.
– 0,bon Dieu! Les langues des hommes sont pleines des trumperies[104]! Oui, милая Жаклин, oui, oui, ти так корощо гворить, и да, язик мусчин – польний обман. Но все же – ты мне нравишься, Жаклин, нравишься, и я сгораю в огне желанья. Так мало дав, меня ты покидаешь? Черные глаза блеснули.
– Какой подарок ти кочешь?
Как будто покачивая в колыбели земные океаны, мы нагнулись и медленно поставили таз на пол. Потом мы встали, исступленно посмотрели туда, где нас уже ничего не разделяло, и, как бешеные псы, набросились друг на друга.
Время горизонтальных танцев Томаса Вотролье давно уж миновало, и зверь о двух спинах не резвился, не скакал уж много влажных лун. Под сияющими звездами бесподобная Жаклин долгие годы лежала в постели нетронутая и изучала сучковатые узоры на деревянных потолках, темнеющие, как озера Дианы. А когда летние ночи умирали и осеннюю мглу накрывало вороново крыло зимы, она закрывала глаза и тихо позволяла своей руке соскользнуть вниз по своему бездетному животу, пока жалкий французский коротышка, побулькивая, похрапывал рядом с ней и его налитая свинцом туша еженощно репетировала окостенение и уход в небытие. Тем более что типограф уже почти к нему приблизился.
Но больше всего меня озадачивало, почему Филд, мой стрэтфордский земляк, не хотел угодить даме, которая явно нуждалась в старой как мир услуге. Но наш Ричард был себе на уме и, возможно, просто выжидал подходящего момента. А я не медлил, господа, я услужил – и Уильям опередил Ричарда[105].
Это было грандиозно. Но все когда-то подходит к концу, и, когда я вышел из Жаклин, с ее прекрасных губ сорвался тихий стон наступившего одиночества, французская лисица издала прелестный возглас отчаяния. Ее волосы вокруг багряно-красной раны были черны, и по разведенным ногам текло мое стрэтфордское семя. Она поднесла к нему свою руку – о, восхитительная рука изящной, как будто высеченной формы! – и с улыбкой вытерла белую влагу о мою грудь.
– Твой молоко, Уилль.
– Я редко делился им с большею охотой.
– Ты ошень добр.
– Молоко сердечных чувств, Жаклин.
– Хочешь еще?
И еще.
– Наверняка тебе потом было стыдно. – На лице Фрэнсиса читался укор.
И да, и нет. На следующее утро, когда я увидел выражение лица Томаса Вотролье, я понял, что ему совсем не хотелось, чтобы я оставался под кровлей «Крыльев» еще на одну ночь. Должно быть, он унюхал исходящий от Жаклин знойный стрэтфордский запах, и, честно говоря, мне было невыносимо смотреть в его серое лицо с укоризненно слезящимися глазами. То было наказание Иуды, и виноват во всем был старый Адам. Я предал хозяина, переспал с хозяйкой, и теперь вихрь в слезах утонет. А потому – скорее на коня! Не будем тратить время на прощанье. Когда наступит холодный рассвет, поврежденный фрукт – Жаклин – снова станет мадам Вотролье. Глядеть на нее через стол, уставленный едой, было выше моих сил. Я покинул их дом и отправился мимо шумных конюшен в Чипсайд, а потом на север по Грэйшес-стрит к Стене[106], чтобы попасть через Мурфилдс в далекий Шордич. Голова моя полнилась всем, что произошло той ночью, и темными прелестями смуглой леди: волосы, спускающиеся по оливковым склонам плеч, чернее козьей шерсти, сладкое, как мед, дыханье, а лоно – как айва. Приближаясь к Бишопсгейту и Хог-Лейн, я от всей души пожалел всех тех мужчин, которые ее не знали и никогда не познают.
Я миновал городскую стену и Стинкинг-Лейн, где маки полыхали в гангренозных садах, как губы проститутки, и хижины теснились на навозных кучах, пересек Мурфилдс и попал в Шордич. Здесь ютились театральные актеры, к которым меня нехотя направил Ричард Филд. Он сказал, что здесь доживали до финального выхода на поклон свою краткую малопочтенную жизнь актеры: Бистон – в Хог-Лейн, Бербидж и Каули – на Холиуелл-стрит, и там же квартировал Дик Тарлтон, король комедии, бог смеха.
Калека-нищий выпросил у меня пенни за то, что указал доходный дом в Хог-Лейн, который выглядел как нужник и издавал такое же зловоние. Я постучался и услышал, как, казалось, целую вечность приближается к двери кашель, хриплый, как ржавые оковы, и наконец увидел толстое грустное лицо отверженного.
Великий Тарлтон. Тарлтон, который, как говорил дядя Генри, был настолько известен, что его изображение использовали вместо вывески на пивных и даже прибивали на уборных – снаружи и изнутри, в помощь тем, у кого был запор. Глядя на его физиономию, люди теряли контроль над собой вернее, чем от сенны, ревеня или касторки. Если, стоя у дверей нужника, вы слышали изнемогающего от хохота посетителя, не сдерживаемые очереди звуков и всплески, будьте уверены: то был сортир с Тарлтоном на двери и за той дверью кто-то выплескивал все, что мог. Человек появлялся из сортира слабым и трясущимся от смеха.
Дядя Генри говорил, что для туалета это было уместно. Публика в театре писала в штаны или делала чего похуже за сценой или даже на ней. Актерам было еще труднее. Репетиции с толстяком гарантировали непрекращающийся хохот с непроизвольными газоиспусканиями и, может, более того. Никто не обладал достаточно чугунными кишками, и пьеса с Тарлтоном редко проходила без песни и «случайной неожиданности». Зрители начинали посмеиваться еще до его появления на сцене. Они приходили в театр, ухмыляясь, расплываясь в улыбке, платили за место и смеялись при одной мысли о его предстоящем появлении на сцене. А как только старый клоун выглядывал из-за занавеса и они видели его жирную физиономию с широким носом, кудряшками волос, озорными усиками и прищуренными смеющимися глазами, они покатывались со смеху, не давая ему вымолвить и слова. Говорили, что Тарлтона слушала сама Дева Мария, а ангелы надрывали бока от хохота.