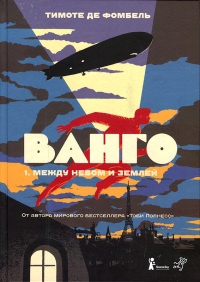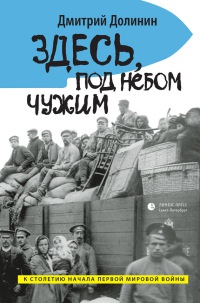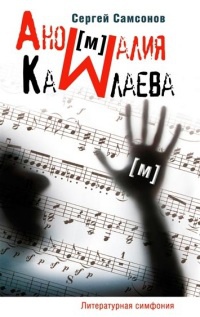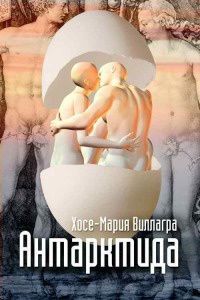Книга Держаться за землю - Сергей Самсонов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Попал я, когда того пацаненка… — впилось то, чего не замоешь, и Лютов увидел плаксиво оскаленный маленький рот, в котором застыл отголосок последнего вскрика детеныша, и прижмуренный мертвый глазок, полный слез, посмотрел на него с неподвижной обидой и ненавистью.
— Вот именно, Вить. Когда пацана… — посмотрел в него Го́ра суровым, взыскующим взглядом, такими вот морозными, безжалостно казнящими глазами смотрел на маленького Лютова белобородый Николай Угодник с бабкиной иконы, и было невозможно его переглядеть, и будто бы не только потому, что «он», этот Бог, деревянный, картина… — Может, жизнь неслучайно тебя к нам сюда привела. Ты ведь ехал — уже понимал, куда ты приедешь, а, Вить?
— Чего? Это, что ли, чтоб я искупил? — сцедил с равнодушным презрением Лютов. — Ты чё, тут в Бога начал верить? Так Бог учил щеки по очереди подставлять обидчикам нашим, не так? А ты хочешь что — чтоб я мокрое с тобой разводил?
— Ты понял, о чем я. — Егор смотрел так, словно силился вытащить Лютова из него самого, добраться до Виктора прежнего, того, кого знал, в кого верил. — Ты убил пацана. Не по названию убил — по сути. И чё, Вить, не жмет тебе это? Не должен ничего за это никому? Не знаю уж, Богу, не Богу… Сколько лет ему было? Первый раз в первый класс? И того не успел? Столько было всего у него впереди — это ж космос. Гагарин, прикинь, должен был полететь и не полетел, в семь лет для него все закончилось. Ты! Ты лишил его этого, ты… Меня тут Светланка на днях огорошила: а из чего, говорит, делают курицу? В тарелке ковыряется. Ну, это, говорю, из курицы. Курица — птица. Берешь ее ловишь, на плаху кладешь… Глаза распахнула, не верит. Такое с ней было… Теперь она курицу больше не ест. Вот ждем от нее про сосиски вопрос… Короче, ты понял. Тут дети. Они как инопланетяне. Совсем еще на нашей Земле не обжились. Иной раз мне кажется, что их сюда к нам присылают. Судить нас, понимаешь? Когда на них смотришь, то вдруг понимаешь: надо что-то менять.
— Вот вы и поменяли, — врезал Лютов. — Фугасом по ихней песочнице завтра — нормально?
— А ты, зная это, уедешь отсюда — нормально? — стравил сквозь зубы Го́ра, просверливая Лютова глазами. — Ты, Витя, здесь. И ты поедешь дальше? Зачем ты живешь вообще? Вот был бы тот мальчонка не прокурорский внук, а так, не важней драной кошки на трассе, ты тогда бы и дальше по встречке гонял с под-полковничьей ксивой в кармане?
— Чего сейчас об этом говорить?
— Вот именно, Витя, вот именно. Сейчас ты опять в машине на трассе, а перед тобой такой же пацан: стоит разинув рот — ворона залетит. Ты можешь дать по тормозам, а можешь не заметить. Сейчас ты на линии фронта. Тут мы, бабы, дети, а оттуда фашистские танки идут. Я не преувеличиваю. И как так получилось, с чего у нас заводка началась, уже не имеет значения. Просто ты сейчас здесь.
— Ты паспорт мне сделал?
— Ну да. Вот только вроде бы уже и не тебе. Какому-то Изотченко Олегу Александровичу. — Егора не ожгло, не оттолкнуло — смотрел на Виктора, того не узнавая, и Лютов вдруг увидел в этих светлых, ни о чем не просящих и ни в чем не винящих глазах одинокую братову душу, которая теряла что-то сильное свое, которая прощалась с ним как с мертвым. — Поехали, что ли, Изотченко? Тебе ведь каждая минута дорога.
И Лютов поднялся, надеясь почувствовать освобождение, и не мог себя вытащить из ощущения неправды. И даже тот пацан был ни при чем — другое останавливало: получалось, Егор и не брат ему вовсе. У Егора тут дом, здесь растит он своих двух девчонок, как яблоньки, здесь держит фронт… А Лютов — «где паспорт?» Оставляет его одного воевать… И Кирьяна с Марчелло, и Саида, и всех…
Пошли коридором. Лютов слышал живое тепло и дыхание спящих бойцов — на казенных диванах, на раскатанных тощих матрацах; чуял запах прокисшей одежды и густого, смолистого пота, стойкий дух оружейного масла и застойную горечь табачного дыма — незабвенный, нетленный для них с Го́рой запах солдатчины.
На проходной автобусного парка светло от одинокого прожектора на вышке. Мешки с песком. Два ручных пулемета с латунными лентами. Постовые бойцы. У двоих автоматы со сдвоенными изолентой рожками — типа, жизнь научила, бывалые. Насмотрелись кино… Лютов мигом вобрал все двускатные крыши поселка с чердачными оконцами и без, и корявый орнамент садовых деревьев, и пустую дорогу в глубь частного сектора, и почти что сливавшиеся с черным небом очертания многоэтажек вдали — и рассек все вот это пространство световыми пунктирами очередей, раскроил на раскрывшиеся веерами сектора своего и чужого обстрела, на свои и чужие подвижные мертвые зоны. Пронесся сквозь поселок чистым духом, вылизывая землю и дома летящим светом фар, оглаживая белыми лучами потолки над обрешеченными детскими кроватками и допотопными настенными коврами. Очертил хищным глазом объемы разрывов. Ощутил зачесавшимся лбом и затылком сосредоточенно-живую теплоту полузаложенных мешками, кирпичами темных окон. Прихотливую россыпь возможных пулеметных и снайперских гнезд.
Против лютовской воли в нем ожил нюхастый, дальнозоркий, расчетливый зверь, могущий видеть сквозь кусты и даже стены, по единственной вспышке, по звуку, по едва уловимому голосу пули — тотчас выстегнуть снайпера из темноты. На миг, всего на миг зудяще захотелось расспросить Егора об опорных пунктах, о мощности связи разбросанных групп, о численности, выучке, замесе, вооружении восставшего народа, хотя по подготовке и так все было ясно: позавчерашние мотострелки, десантники, ракетчики, танкисты, наводчики орудий и связисты с рудиментарной памятью на рычаги и спусковые механизмы, с нормальными такими притупленными начатками уменья убивать. Обыкновенный становой хребет мужского населения промышленного города, где в армию не попадают только те, кто напоролся на срока по малолетству. А вот что у них есть из железа, что смогли наскрести по сусекам ближайших в/ч… и тотчас оборвал себя от смеха: а зачем ему, Лютову, знать, если сам все равно не останется?
— Давай на твоей, — кивнул Егор на «дастер». — Бойцов только захватим. Флакон! Садись! Поехали!
На заднее сиденье втолкнулись двое молодых. Лютов вырулил, следом потащился пикапчик неопознанной местной породы — само собой, с тремя бойцами-автоматчиками под голыми ребрами тента. Егор молчал, указывал дорогу, а бойцы продолжали прервавшийся у камелька разговор.
— Тут слышим — движок и типа как гвозди в жестянке гремят. Ну, бээмпэ на скорости, понятно. Выглядываем аккуратно: они на пригорке, бойцы на броне, а следом еще два пикапа, и все такие навороченные, чисто звездный десант, прицелы на касках у них, визиры все эти… Вот странно, биотуалет еще прицепом не тащили. И главное, встали — мишень идеальная. Гореть бы им тут же бенгальским огнем…
«Ты смотри, типа, опытный», — усмехнулся рассказу арбузно-румяного хлопчика Лютов. Если Виктор и чуял в ком-либо какую-то родность, то в таких вот зеленых пацанчиках с металлической пудрой и гарью на еще розовеющих, детски пухлых щеках. Он и сам был таким, он и сам… Если где-то в нем и шевелилось инстинктивное чувство сообщества, братства, то «там». Посреди выкипавшего жидким гудроном ледяного, скелетного Грозного. На площади Минутка. В Аргунском ущелье. В Шатое. В кисельной грязи, которой покрываешься, как ржавчиной. На жирной пластилиновой земле, исполосованной ребристыми следами гусеничных траков. В пескоструйной метели, в наждачной пыли, хрустящей на зубах и режущей глаза. Как будто на ночной поверхности Луны, рябой от воронок, колючей от скальных массивов, обглоданных вселенскими ветрами. В багрово подсвеченной, дышащей, как роженица на сносях, ночи, когда над руинами многоквартирных домов взлетала вдруг с беззвучным трепетом ракета, одевалась лучистым золотым ореолом, повисала над улицей желтым дрожливым светильником, и становилось видно каждый камушек на перепаханной разрывами земле и любую ничтожную оспинку на издырявленном, изгрызенном фасаде.