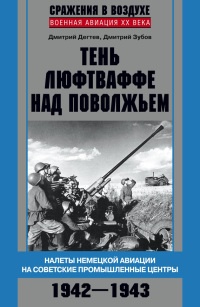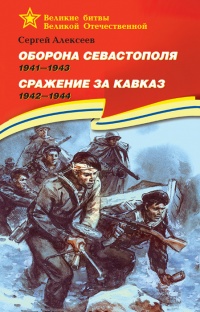Книга "Мессершмитты" над Сицилией. Поражение люфтваффе на Средиземном море. 1941-1943 - Йоханнес Штейнхоф
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Когда начал падать первый снег, мы перебазировались в степи Калмыкии, чтобы участвовать в попытке прорыва к Сталинграду. Теперь до Питомника было очень далеко, и мы не могли больше сопровождать «юнкерсы», «хейнкели» и «дорнье», которым под прикрытием ночи приходилось летать собственными окольными путями. Каждый раз, пролетая над пересохшими оврагами около Сталинграда, я мог видеть серые шинели немецких солдат, тысячами скапливавшихся в тех гиблых местах.
Многие из моего окружения видели приближавшуюся катастрофу, особенно когда наступила зима и армия осталась без защиты перед ледяными снежными бурями. Было легко увидеть, что запасы амуниции и снаряжения тают, но как они могли противоречить заявлению рейхсмаршала: «Люфтваффе, мой фюрер, возьмет ответственность за снабжение 6-й армии в Сталинграде»?
Пилот мог наблюдать за развитием сражения в каждой его стадии, словно в ящике с песком для учебных занятий. Каждое утро, когда выполнял первый вылет над территорией, он видел изменения, которые произошли на фронте, и мог оценить, что наземные войска могли или не могли сделать, какие у них перспективы для атаки или обороны. За годы опыта на различных фронтах он приобретал натренированный глаз. Мы знали больше людей на земле об огромных расстояниях, на которых мы действовали, возможно, потому, что представляли реальные их размеры, которые нам ежедневно приходилось вычислять. Однажды мы поняли, что нас поглощает безграничное пространство этой степи. Мы прибывали в какую-то точку пространства, в место без названия, куда наш «юнкерс» доставил наших механиков и откуда снова взлетал, чтобы вернуться с бочками топлива. И это место становилось передовой взлетно-посадочной площадкой и приобретало имя: Гигант, например, или Гумрак, или что-то совершенно непроизносимое.
К этому времени «юнкерсы» уже не могли садиться в котле, так что продовольствие сбрасывалось с воздуха. Когда мешки содержали сухари в белых картонных коробках, они фактически ничего не весили, а однажды были даже доставлены рождественские кондитерские изделия – это были подарки из дома.
Незадолго до Рождества мощный клин, состоящий из пехоты и бронетанковой техники, начал продвигаться по обеим сторонам железной дороги, пересекающей калмыцкие степи через Котельниково и Зимовники, пытаясь достичь окруженной армии. Мы оптимистически оценивали происходящее и находились в воздухе с рассвета до наступления темноты. Я редко участвовал в боях, которые так бы эмоционально переживал. Мы были на постоянной радиосвязи с 6-й армией и слушали сообщения, которые она передавала, чтобы содействовать операции по деблокированию. Они часто оказывали большую помощь, поскольку русские военно-воздушные силы сконцентрировали все свои усилия в этом жизненно важном месте и всякий раз, когда могли, выполняли штурмовые атаки или сбрасывали бомбы, причиняя тяжелые потери.
Типичное сообщение было таково: «Говорит отделение связи на элеваторе – стая истребителей и бомбардировщиков над Питомником». А вечером мы могли услышать: «До завтрашнего утра. Пожалуйста, возвращайтесь снова».
16 декабря Красная армия прорвала итальянские и румынские позиции на Дону. 6-я танковая дивизия – авангард деблокировочных сил – остановилась. Атаки на земле были прекращены, и операция «Зимний шторм», с которой мы связывали такие большие надежды, ничего не принесла. Вечером того же дня, летя в северном направлении вдоль железнодорожной линии, я заметил длинную колонну танков, окрашенных в белый цвет, на которых сидели солдаты в белых меховых куртках. Я опустился пониже, чтобы идентифицировать их, и неожиданно был встречен мощным градом пулеметного огня. К своему ужасу я понял, что это русские танки и что они на высокой скорости двигались на юг, в направлении нашего аэродрома в степи.
Я дважды атаковал их, израсходовав весь боекомплект, и запросил по радио помощь. Мы сделали все, что смогли, но, я полагаю, едва ли произвели впечатление на те танки «Т-34».
Пока атаковали их, мы могли слышать в наших наушниках голос связиста на элеваторе, который с короткими промежутками и почти шепотом повторял: «Говорит элеватор Сталинграда. Вы слышите меня? Пожалуйста, ответьте». Но никто не отвечал ему. Той же самой ночью мы поспешно перелетели на передовую взлетно-посадочную площадку, расположенную южнее.
В течение всего обеда маленький англичанин чопорно сидел на стуле. Он не пил ничего спиртного. Время от времени, пытаясь рассеять неловкость, кто-то задавал ему вопрос на ломаном английском, на который он вежливо отвечал: «Да, сэр» или: «Нет, сэр». Его канадский компаньон сначала ограничивался редкими глотками, говоря всякий раз «cheer», когда кто-нибудь поднимал свою рюмку в его сторону. Но позже начал пить всерьез, в то время как Толстяк, не моргнув глазом, продолжал пополнять его рюмку. Перед ним поставили маленький стакан с бренди, и он проглотил его залпом, когда я поднял свою рюмку, чтобы выпить за его здоровье.
Гёдерт шаткой рукой потянулся за бутылкой красного вина, но Кёлер убрал ее за пределы его досягаемости.
– Вы пьете больше, чем можете. Лучше попросили бы у Толстяка крепкий кофе.
– Я трезв, как холодный камень, – печально пробормотал Гёдерт, опрокинув правым локтем рюмку, оставившую на столе большую лужу красного вина, которая постепенно начала впитываться в скатерть.
– Бахманн, пленным лучше пойти обратно, – сказал я и попрощался с ними кивком, на который они ответили улыбкой.
– Пойдемте, парни, – произнес Бахманн, ведя этих двоих к двери, где они на мгновение остановились, чтобы пожелать нам спокойной ночи.
Комната была заполнена дымом сигарет. Мы сидели на плетеных диванах и стульях, в рубашках, расстегнутых на груди и с закатанными рукавами, вытирая тыльной стороной ладони пот с наших лиц. Время от времени булькала бутылка, наполняя наши рюмки. Через закрытые ставни слышались гул двигателей «веллингтонов» и с нерегулярными промежутками глухие разрывы.
Никто не обращал внимания на неприцельную бомбежку. Вероятность того, что бомба попала бы в виллу, была столь ничтожна, что казалась абсурдной. Мы стали необычно безразличными ко всему, слабо интересуясь, например, тем, что происходило на родине. Здесь события следовали друг за другом настолько быстро, что ни у кого не было времени думать о них, и один день мог показаться длиной в год. Кто мог сметь думать о завтрашнем дне и строить планы на будущее? Мы привыкли к пустому ритму войны и жили только до следующего вылета, до вечерних вылетов или, самое большее, до следующего утра. Что мог принести следующий день, было для нас совершенно безразлично, время между настоящим и будущим казалось нам вечностью.
Мы все настолько привыкли к Фрейтагу и его манере верховодить, что его отсутствие наводило на нас уныние. Мы не удивились, если бы он все еще был жив, сумел ли он сохранить свободу после приземления на парашюте или попал прямо в руки американцев? Мы бесконечно строили предположения относительно этого, но я чувствовал, что надежды мало. Во время подобных вечеров Бахманн и Штраден были неразлучны. У них неизменно находилось много чего сказать друг другу в ходе своих бесед шепотом, и тем самым они мало способствовали общему разговору. Был Фрейтаг, который задавал тон. Теперь Штраден также покинул нас – был ранен и эвакуирован. Бахманн отошел в угол и молча сидел там, потупив взор. Выглядело это так, словно он пытался создать расстояние между собой и нами, хотел остаться один, по крайней мере этим вечером.