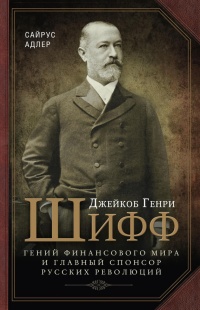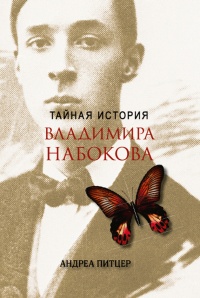Книга Вера (Миссис Владимир Набоков) - Стейси Шифф
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
(Напрашивается мысль: нет ли здесь переклички с именем Веры? Возможно также, что это аллюзия на имена Набокова и его отца. Когда Владимир впервые еще в 1936 году замыслил писать мемуары, рабочим названием в основе своей отвергнутого повествования было: «Это — я». Памятуя о радости, излучаемой «Убедительным доказательством», книга имела право быть названа также и «Сияющие слезы»[163]. Хотя большинство отзывов оказались восторженными, громче звучали голоса недовольных. Как и многое из написанного Набоковым, эта книга не вызвала восторгов у критика «Нью-Йорк таймс» Орвилла Прескотта, совершенно не воспринявшего затею человека-миража. «Ему неинтересно вдаваться в подробности характеров, — цеплялся Прескотт. — Он даже не дает четкого портрета самого себя». Распродавалась книга вяло, в немалой степени в силу того, что Николай Набоков незадолго до выхода в свет «Убедительного доказательства» выпустил свои мемуары из музыкальной жизни. Даже редактор Владимира путался в этих двух русских. Не удивительно, что у Набокова — уязвленного не ему адресуемыми комплиментами, которые шли затем год за годом, — возникло ощущение собственной второсортности, если не хуже того[164].
В тот месяц, когда книга вышла в свет, Набоковы были захвачены другими проблемами. «В течение пяти дней кряду и без перерыва мы с Верой с десяти утра и до двух ночи проверяли студенческие сочинения», — записал Владимир в феврале 1951 года, когда витрины книжных магазинов Итаки были сплошь увешаны плакатами, рекламирующими «Убедительное доказательство». Повеяло теплом, начало таять; Владимир следил за тенью капель, падавших с крыши. Записал в дневник Верино высказывание об оттепели: «Текут сосульки, какая игра алмазов!» В марте десять дней она печатала и перепечатывала рассказ «Сестрицы Вейн», в котором растворились все эти сталактиты штата Нью-Йорк, который Владимир ей диктовал и который ему самому очень нравился, гораздо больше, чем журналу «Нью-Йоркер», отвергнувшему это произведение. В том же феврале Вера обнаружила в чемодане три французских перевода ранних рассказов мужа и отослала их его парижскому агенту. Словом, Вера не сидела сложа руки.
Весной Набоковы продали пианино, которое проделало с ними путь из Уэлсли, без сожалений распрощались с Сенека-стрит и «налегке» отбыли на запад в своем почтенного возраста автомобиле.
Если и стоило Вере когда-нибудь отговаривать мужа от работы над непопулярной рукописью, то именно в данный момент. Его творчество, возбуждавшее столько новых надежд и попеременно у трех американских издателей, претерпело целую серию «удручающих финансовых провалов». Особенно остро это ощущалось на Сенека-стрит в 1951 году. Той весной Дмитрия приняли в Гарвард, назначив ему неполную стипендию; эта весть заставила Веру возликовать и одновременно озаботиться по поводу недостающих денег. В тот год даже Дмитрий был осведомлен о сложном финансовом положении семьи. Владимир решил, что больше так нельзя. Больше он никогда не позволит задушить ни единую свою книгу, что, как считал он, с таким пошлым восторгом недавно проделало издательство «Харпер». Покончив с простодушием, которое некоторые считали характерной его чертой, Набоков поклялся, что отныне станет жестоким и коварным. Как в финансовом, так и в творческом отношении болезненно сказался отказ издателей печатать рассказ «Сестрицы Вейн». И Владимир потерял всякую надежду, что рукопись, над которой он в данный момент работал, будет принята каким-нибудь журналом.
Рукопись, к которой Набоков периодически обращался с лета 1947 года, очевидно, была менее всего способна избавить Набоковых от их проблем. Как бы мимоходом Владимир, беседуя с одним издателем в ноябре 1951 года, впервые упомянул о новой работе. «Более того, я нахожусь в процессе сочинения романа, в котором речь идет о проблемах в высшей степени порядочного джентльмена средних лет, который испытывает в высшей степени безнравственные чувства к своей падчерице, девочке тринадцати лет», — поведал Набоков Пэту Ковичи из «Вайкинг Пресс». Истинно рассудительная жена человека, долг которого друзьям составляет несколько тысяч долларов, могла бы посоветовать мужу взяться за тему более ходовую; мать, не согласившаяся дать двенадцатилетнему сыну прочитать Марка Твена, очевидно, и здесь предпочла бы взбунтоваться. Но когда речь шла о произведении искусства, вернее, о творчестве Владимира, соображения морали оказывались бессильны.
Своим появлением на свет «Лолита» обязана Набокову, а своим существованием — Вере; в Итаке рукописи неоднократно грозило сожжение. Уже осенью 1948 года она как никогда была близка к своей гибели: Владимир, подхватив листы, ринулся к бочке для сжигания мусора на заднем дворе дома по Сенека-стрит. Дик Кигэн прибыл на место действия за несколько минут до Веры, вышедшей из дома и обнаружившей, что муж, разведя огонь в оцинкованном резервуаре у заднего крыльца, уже кидает туда страницы рукописи. В ужасе Вера бросилась выхватывать, что могла спасти, из огня. Муж вознегодовал. «Пошел вон отсюда!» — прикрикнула на него Вера. Владимир повиновался, Вера затаптывала огонь на спасенных ею страницах. «Это надо сохранить!» — припечатала она. По крайней мере, рассказывают, как однажды в менее драматичных, чем то несостоявшееся сожжение, обстоятельствах она отшлифовала рукопись, забракованную мужем, а позже он это издал. Подобное же произошло и с «Лолитой». Набоков вспоминал, как Вера несколько раз в 1950 и 1951 годах останавливала его, когда он, «обуреваемый техническими сложностями и сомнениями», пытался сжечь «Лолиту». Поскольку никто пока не собирался издать рукопись, Набоков был крайне удручен. Несколько лет назад на пути в Итаку только одна Вера и знала, что в дом по приезде им не попасть; теперь только одна и догадывалась, какую «бомбу замедленного действия» готовит муж своим новым романом, произведением настолько взрывоопасным, что Владимир даже в дневнике вымарал свои рабочие заметки — по поводу сексуальных отклонений и браков с несовершеннолетними. Многие рукописи подвергались сожжению, среди них ранние варианты «Доктора Джекила и мистера Хайда» и «Мертвых душ». Трое пожарников вынули из огня «Портрет художника в молодости»; в романе «Бледный огонь» Кинбот наблюдает, как Джон Шейд на заднем дворике устраивает свое аутодафе. То, что «Лолита» избежала подобной участи в тех условиях и в той атмосфере, в какой Набоков творил в начале 1950-х годов, является свидетельством Вериной способности, по выражению ее мужа, не пускать на порог мрачные мысли, едва появятся — разить их наповал. Вера опасалась, что воспоминание о незавершенном труде будет преследовать Владимира всю оставшуюся жизнь.
В отношении его замыслов покладистой она ни в коей мере не была. Когда Владимир объявил коллегам, что задумал написать роман о любовных отношениях пары сиамских близнецов, Вера решительно вмешалась. «Не смей этого делать!» — тревожно вскинулась она. В результате получилось относительно спокойное произведение «Scenes from the Life of a Double Monster»[165]. (В связи с громкой публикацией «Лолиты» одна несколько шокированная коллега успокаивала себя, что могло быть и хуже. Хорошо еще, что Владимир не пустился развивать тему страсти сиамских близнецов.) Много позже Вера яростно воспротивилась идее Владимира опубликовать сборник его любимых русских стихов в собственном переводе. К тому же Вера внимательно следила за воплощением его творческих замыслов. Вероятно, весной Вера понятными для золовки выражениями объясняла в письме Елене Сикорской, почему пишет именно она: «Как раз сейчас „из него выходит“ новый рассказ, и он ничем другим заниматься не может до тех пор, пока не „выведет его из своего организма“. Это как болезнь, ты ведь его знаешь». С равным блеском исполняла Вера роли и толкача, и тормоза; пожалуй, точнее всего ее охарактеризовал Филд, назвав «интеллектуальным въездным и выездным контролем» Владимира. Набоков зависел от трезвости, а также самобытности ее мышления: «Моя жена, конечно же, великолепный советчик. Она мой первый и лучший читатель», — говорил Набоков одному репортеру вскоре после выхода в свет книги «Под знаком незаконнорожденных». В Берлине, когда муж был уже готов пожертвовать сном ради того, чтобы создать рифмованный перевертень о четырех строках, она негромко скомандовала: «Иди спать, Володя!» Перевертень так и остался незавершенным. Вера делала все возможное, чтобы Владимир работал, не давая ему слишком перерабатывать, и это становилось все трудней, едва английский язык стал приспосабливаться к его творческим потребностям. Последние письма Веры наполнены беспокойством, что не удается убедить мужа устроить себе необходимый отпуск. Иногда даже кажется, будто она готова спрятать от него перо и бумагу.