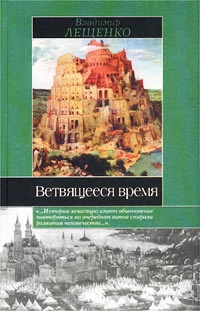Книга Петр Лещенко. Все, что было. Последнее танго - Вера Лещенко
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Соколов резко оборвал мою речь на полуслове и разъяснил, как правильно я должна обращаться к нему. После этого мне совершенно расхотелось говорить откровенно – монолог с пеленками был последней вольностью, которую я себе позволила. Мне объяснили, что детские игры давно закончились, что все очень серьезно, что я арестована и меня будет судить военный трибунал, что буду наказана я за измену родине, что должна подумать, как искупить свою вину перед страной, а не играть в добренького адвоката. И совсем строго следователь добавил:
– Вас будут судить, и не надейтесь, что вас кто-то защитит. Вам защита и свидетели не положены.
Однако в деле свидетельских показаний было очень много, но об этом я узнала позже. Как свидетеля допрашивали мою подругу Людочку Бетту. Она рассказала, что ты жил у нас, что мы любили друг друга. Она говорила правду и все же очень переживала, что не отказалась давать показания. А вот свидетельства двух знакомых румынок оказались в конверте с грифом «Особо секретно» – меня арестовали на основании сфабрикованных от их имени заявлений. Не исключено, что и в твоем деле они фигурировали как главные обвинители. Бог им судья. Нас с тобой все равно разлучили бы. Не заявили бы те две подружки, так другие бы доносчики нашлись.
В первые дни меня допрашивали каждый день по утрам, но протоколы подписывать не давали. На шестой день мне предъявили обвинение, я подписала бумаги, что ознакомилась с документами на свой арест. Да, Соколов был прав, детские игры закончились. Начался театр абсурда.
К стыду своему, я не знала слов песни «Широка страна моя родная», поэтому и на вопрос следователя, на каком основании ты изменил слова в песне, не смогла ответить. Соколов был раздражен:
– Перестаньте прикидываться! Все вы понимаете. Время выигрываете?
Наговорил мне гражданин следователь много неприятных вещей, но не без пользы. Я узнала, что «сталинский закон» ты заменил на «строгий всем закон». Что криминального углядели мои обвинители в той замене? Нарушение закона. А закон тогда был один: кто не прославляет великого вождя, тот преступник. Нелепы и глупы были обвинения, а те, кто их формировал, изо всех сил пыжились и доказывали важность и «нужность» своих деяний.
Когда в журнале «Крестьянка» появилась информация о наших допросах, Соколов проявился. Написал в редакцию опровержение, пояснив, что сочувствовал мне и сделал все возможное, чтобы «облегчить мою участь». Двадцатый век вступил в свое последнее десятилетие, а рассуждения Соколова остались прежними. Он вновь говорил об опасности, которую представляли бывшие белогвардейцы, о том, что была необходима подстраховка, ведь враг хитер, и о том, что в итоге «число обезвреженных преступников значительно превысило количество невинных жертв». Какой цинизм! Долго я жаждала увидеть наших с тобой палачей. В глаза посмотреть им, наказать за их беззаконие, за сломанные судьбы. Долго жажда мести во мне бурлила, мучила меня. Однажды услышала в телепередаче, как Василий Аксенов сказал своим собеседникам, возмущенным деяниями «сталинских орлов», загубивших отца и мать писателя, затолкавших его в приют, спокойно сказал, что не надо никого наказывать, но раскаяние этим людям не помешало бы. Не помешало бы! Но оно так и не случилось.
На очередном допросе, когда я уже была в качестве обвиняемой, Соколов сверял то, что я говорила, с написанным в папке, которая лежала рядом с моим делом. Я спросила, что это. Инструкция? Он усмехнулся, но ничего не сказал. Когда в конце нашей «беседы» я подписывала протокол, то обратила внимание на некоторые расхождения. Например, было записано, что не я пришла на репетицию, а ты увидел меня в ресторане, подрабатывающей солисткой, и пригласил на свой концерт. Иначе звучал мой рассказ о совместной работе в Одессе: оказывается, я не выступала с тобой, только один или два раза присутствовала на твоем концерте. По моей просьбе следователь внес поправки, но оставил и свои, противоречащие моим. Вообще незадолго до вынесения приговора он стал иначе вести себя – сочувствие появилось. С чего бы это? Закончив очередной допрос, следователь приказал подойти к его столу и расписаться. Подписывать протокол – занятие нудное и небыстрое: страниц много, надо в конце каждой подпись свою поставить. Расписываюсь, а сама пытаюсь разглядеть запись в другой, лежащей рядом папке. Поняла, что это чей-то допрос, в котором встречается мое имя, узнала я и почерк Соколова, а внизу страницы… Сердце упало – там стояла твоя подпись. Спрашиваю:
– Где мой муж? Он ведь здесь! Пожалуйста, устройте мне свидание. Одно свидание – и я подпишу все, что вы скажете. Будьте человеком, может, это последняя наша встреча. Не молчите, пожалуйста, ведь Петя здесь, я знаю!
Соколов был просто взбешен:
– Ничего ты не поняла! Она мне условия ставит! И так все подпишешь как миленькая. Связалась с отщепенцем…
Меня заставляют подписать остальные страницы протокола. Я ставлю подпись не читая. Появляется конвоир – тот, который добрый. Может, рискнуть – узнать у него, где тебя держат? Во время прохода по коридору спрашиваю, какая погода на улице. Мне в ответ: «Не положено разговаривать!» Значит, наблюдение существует. Опять я в своей одиночке, здесь тепло – единственное утешение. Прошло немного времени, окошко открывается, добрый охранник передает мне прикуренную самокрутку и говорит тихонько: «Погода хорошая!» А сам оглядывается – видно, что боится. Еле слышно произношу: «Здесь мой муж…» Он в ответ: «Знаю, рядом!» – и глазами на стену, что слева от меня, показывает. Окошко захлопнулось.
Трудно описать мое состояние. Я гладила стену, прислушивалась к тому, что за ней происходит. А там тишина – ни шороха. Я пыталась бить в стену, но только рукам больно, а звуков никаких. Села у стены и реву-причитаю. Потом на коленях стала просить Всевышнего помочь мне. Вот тогда я поняла, что нет в жизни ничего страшнее собственного бессилия. Как матрас на полу – ни чувств, ни мыслей, одна солома. Ничего не можешь. Ничего.
Не знаю, сколько времени я провела, прижавшись к грязной стене. Принесли кашу на ужин – отказалась. Рассчитывала, что прибегут, будут упрашивать, а я условие свое: «Дайте свидание с мужем». Детский сад!
Сидела у стены, плакала и причитала сутками. Может, ты слышал меня? Но почему не ответил? Я поначалу думала, что звукоизоляция хорошая, потому что ни звука с той стороны не донеслось. Или тебя опять увезли к румынам? Ведь здесь, в Констанце, в тюрьме вся обслуга, все следователи и конвоиры были советские, а ты гражданин Румынии.
Больше недели прошло, а меня все не вызывали на допрос. Дурной знак. Добрый парнишка-надзиратель по-прежнему в свое дежурство снабжал меня самокруткой, но делал это так быстро, что я не успевала и слова произнести. Жить не хочу. Мне страшно. Я чувствовала, что нахожусь на грани истерики. Родной мой, любимый, откликнись. Подскажи, что делать. Я хочу увидеть тебя. Не прошу ничего, только увидеться, услышать тебя, сказать, что ты значишь для меня. Ну, помоги, ты все можешь.
Спустя две недели после последнего допроса меня ведут в комнату следователя. Наконец! Я должна уговорить Соколова. Неужели он не понимает, что нет в нашем деле криминала и политики, просто два человека любят друг друга. Я уговаривала себя, что следователь в душе добрый человек и должен пойти мне навстречу.