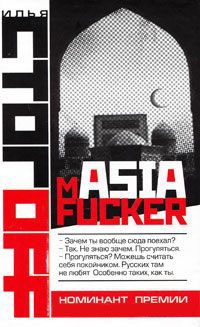Книга Ледяной клад - Сергей Сартаков
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Максим повернулся немного боком к снежной насыпи. Получилось - он видит Ребезову (это для себя), и в то же время он весь, целиком, в работе (пусть видит Ребезова). Крупные осколки льда так и летели у него из-под топора, сползали вниз, к ногам, со стеклянным звоном. А плечи между тем сводило, стягивало холодной сыростью, она, как чернильное пятно на промокашке, все быстрее и быстрее расползалась по спине. Максим чувствовал: немного - и у него больше не хватит силы воли, он отшвырнет топор, сорвет полушубок и на позор себе начнет выгребать из-за воротника еще не полностью растаявший снег.
Он опустил топор как раз в тот момент, когда Женька Ребезова остановилась в пяти шагах от него и, поправляя, прихорашивая на голове платок, сказала:
- Ой, да это, оказывается, Максим Петухов! А я издали глядела, думала: самовар стоит на снегу, паром клубится. Подойдем и чайку попьем. Ха-ара-шо-о!
Максиму и прежде сверлящий Женькин голос порою казался штопором, так он больно ввинчивался ему в самую душу. Теперь же этот штопор Ребезова словно еще и потянула на себя, вытаскивая из Максима душу, как тугую пробку из бутылки.
"Самовар"!.. Вот так героем показался! Максим невольно даже выставил руки вперед, неведомо от чего загораживаясь. Слов для ответа у него не нашлось никаких. Не такого он ожидал разговора.
А девчата, пять-шесть человек, теснились позади Ребезовой, выглядывали у нее из-за плеча - румяные, круглые лица - и тихонько пересмеивались. Максим с каким-то далеким, угасающим чувством самокритичности сознавал: вот он стоит, наверное, с лицом белым как снег, слипшиеся от пота волосы из-под шапки выбились на мокрый лоб, глаза стеклянные, круглые, а от спины дрожащими струйками поднимается пар. Действительно картина!
В нескольких шагах от него, ни на что не обращая внимания, пешнями долбили лед Перевалов и Павел Болотников, и Максиму казалось, что они бьют острым железом ему прямо в уши.
Надо было хоть что-нибудь да сказать.
В таком нелепом, скованном состоянии Максим бывал лишь дважды в жизни. Первый раз - в школе, когда, списывая у соседа решение одной очень трудной алгебраической задачи, он нечаянно перепутал знаки, но бодро вышел с тетрадью к доске и только тут, к ужасу своему, заметил роковую ошибку, а сообразить, где именно перепутаны знаки, он уже не мог. Он начал: "Так вот..." И накрепко замолчал, не слыша ни одного вопроса учителя и вообще не слыша ничего. Только на следующий день Максим узнал, что учитель поставил ему редкостный в школьной практике кол. Второй раз, в армии, на стрельбище, он ухитрился сверх трех, отпущенных по норме патронов вложить в магазинную коробку четвертый, краденый, зная, что хоть одна-то пуля у него уйдет обязательно "за молоком", и надеясь каким-нибудь образом тогда словчить четвертый выстрел. Но на удивление все три пули у него легли точно в цель, почти в самую десятку. И когда Максим цвел, слыша одобрительные слова товарищей, подошел капитан, командир батальона, пожал ему руку, поздравил и взял винтовку. Максим тогда сказал тоже: "Так вот..." И онемел. Не слышал ничего, что говорил ему капитан. Он понял только, что с него снимают ремень. А потом его повели на гауптвахту.
Проклятые слова "так вот" и после, бывало, в трудных случаях жизни просились у него с языка. Но он крепился, суеверно боясь, что произнеси только эти слова, и тебя непременно постигнет еще большая неприятность.
А Женька Ребезова все стояла, теперь уже опираясь на черенок воткнутой в снег лопаты, и тихонько посмеивалась, пришептывая: "Ха-ара-шо, ха-ара-шо-о". Максим неизвестно зачем покрутил руками, хлопнул себя по бедрам, с натугой улыбнулся. И тут у него вырвалось:
- Так вот...
Сказал - и превратился в статую. Теперь, после этих идиотски глупых слов, уже ничего не поправишь. Максим, сдавайся! Была единица, была гауптвахта - что будет теперь?
Максим оглох совершенно. Зато как-то в особенности остро увидел сразу все. Слева - чернеющий вечерними тенями глубокий распадок, в котором стылой белой лентой покоилась Громотуха, а по этой ленте сюда, к Читауту, продвигалась цепочка людей, словно плывущих по снегу. Справа - торчащие редкой щетиной вершинки тальников на острове, исполосованном застругами, и тонкие вешки вдоль будущей дамбы, и далеко за островом, на горизонте, темно-синюю волнистую череду Ингутских перевалов. А прямо впереди бульдозер, трактор, открытую, длинную низину, которую можно бы принять и за вспаханное, взвороченное гигантскими плугами поле, если бы не знать заранее, что дыбящиеся вверх пласты - завеянные метелями торосы. И прямо впереди же, только немного дальше, на крутом берегу - домики рейда, такие маленькие, что все их можно собрать и поставить себе на ладонь, а за рейдом тонущий в морозной дымке горбатый мыс, на который медленно опускается багровый диск закатного солнца.
Все это Максим видел так, словно сам он куда-то исчез, сделался невидимкой, осколком льда, застывшим на тонком лезвии отброшенного прочь топора. Уже совсем без него двигались, смеялись и разговаривали девчата, совсем без него гремели инструментами Перевалов и Павел Болотников, готовясь шабашить, совсем без него вдалеке тарахтел трактор, поднимающийся по крутому взвозу в поселок и увозящий - теперь это ясно! - по сути дела, его же, Максимов, позор.
- Так вот... - бездумно сказал он снова.
Ему казалось, что все это длится бесконечно долго. А минуло, быть может, всего лишь несколько минут. И когда Максиму думалось, что он даже сам не видит себя, Женька Ребезова тоже на него уже не смотрела. Пошептав свое "ха-ара-шо, ха-ара-шо-о" и вволю натешившись глупым видом окаменевшего Максима, она сразу же подошла к Павлу Болотникову.
- А не пора и нам кончать? - спросила она. - Вон шишкинская бригада вся к домам потянулась. Как там, по солнышку?
Болотников свистнул.
- На солнышко ты не гляди - день прибывает. А сверхурочные Баженова, как профсоюз, нам все одно не подпишет. Я спрашивал. Не по часам, сказала, а по совести работаем. Сегодня, между прочим, кино. Учти.
Ребезова помахала рукавицей, подавая всем знак "кончай работу", и направилась к поселку по тропочке, хотя еще и не утоптанной прочно, но уже отчетливо видимой в глубоких сугробах. К ней моментально пристроился Болотников. Остальные потянулись за ними, ступая в след. Железно прогрохотали, разворачиваясь в синем дыму, бульдозер с трактором - на ночь их тоже уводили на рейд. Перекрывая сухую трескотню моторов своим сверлящим голоском, Женька запела:
Я без чаю не скучаю,
Мне не нужен самовар,
Если крантик отвалился
Это вовсе не товар.
Максим стоял на прежнем месте, медленно расстегивал полушубок, зачем-то водил рукой по шее - снег все равно уже растаял.
- Так вот... - трясясь, выговаривал он теперь полным голосом. - Так вот, действительно, язва какая-то. Правильно ее Мишка, будто жабу, не любит.
Он с закипающим гневом смотрел, как удаляется Женька, идя об руку с Павлом, как они постепенно становятся меньше и меньше, а кроваво-красный диск солнца, дрожа над землей, все увеличивается в размерах, становится больше, крупнее. И ему хотелось, чтобы солнце не опускалось за горизонт, а помчалось бы им навстречу, все ширясь, распухая прямо-таки вполнеба. И пусть Женька с Болотниковым шагнули бы в него, как в огненную печь!