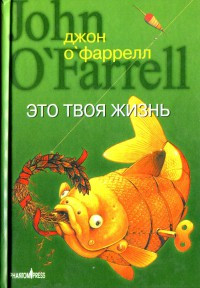Книга Уготован покой... - Амос Оз
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
В разрывах облаков сверкнули три-четыре холодные звезды. На секунду ему представилось, что звезды эти — маленькие отверстия, вроде дырочек, проеденных молью в тяжелом бархатном занавесе. А за темным бархатным занавесом разливается сейчас слепящим, пылающим потоком сияние, беспредельное и наводящее ужас. И звезды всего лишь крохотный намек на ту бурю света, что бушует за занавесом. Словно черное дно небосвода дало едва заметную течь и две-три капли прорвались сквозь него.
К Иолеку пришло успокоение. Он шел медленно, в раздумье глубоко дыша. Воздух был живительным и острым. Иолек всей грудью вдыхал полные густой чувственности запахи деревни, и ему казалось, что чьи-то ласковые руки касаются его. Когда это было в его жизни — ласковые руки? Долгие-долгие годы пролетели… Не принимать же в расчет его «поклонниц», активисток Рабочего движения, вдовых или разведенных, бравших его стремительно, почти что приступом. Да и это уже было давным-давно… Сама природа словно бы испытывала жалость к каждой живой душе, отпуская ей какое-то количество лет, проведенных в материнских объятиях, даже если это душа «злобствующего интеллигента». Все это странно и даже немного грустно, молвил про себя Иолек, вспомнив свою мать. С тех самых пор не знал он ласки… Свет звезд в зимнюю ночь — это, безусловно, добрая примета, но, по сути, дело плохо, хуже не бывает.
Плотный кисловатый пар вырывался из курятника. Теплый запах навоза стоял в кошарах. Из темноты в темноту текла струйка размокшего компоста. В эту зимнюю ночь присутствие дремлющих животных действовало умиротворяюще. Было слышно, как дышат коровы… Не грешен ли и я перед моим сыном? Не страдает ли он и по моей вине? Какой дьявол подсунул парню в жены именно Римону? И кого собрался он наказать? Себя самого? Свою мать? Возможно, меня? Что ж, так тому и быть, решил Иолек, пусть каждый несет свое наказание. Так тому и быть. А что до ласкового прикосновения… ну разве это не смешная сентиментальность для человека моего возраста и положения? И все-таки, если бы не то несчастье, я бы мог быть уже дедом. Каждый день в половине четвертого я появлялся бы в яслях и, опередив родителей, умыкал бы ребенка. Сажал его на плечи. И мы шли бы к качелям. В поле. Во фруктовый сад. На лужайки. В хлев, на птичник, к коровам. К клетке с павлином возле бассейна. И я бы раздавал направо и налево сласти, подарки, подношения, отступные вопреки всем моим принципам. И, ничего не стыдясь, перед всем народом я бы целовал его маленькие ножки, пальчик за пальчиком. И, как подросток, валялся бы с ним в летний день на траве. И поливал бы его из шланга, а он отвечал бы мне двойной мерой. И я кривлялся бы перед ним, словно клоун, хотя никогда не делал этого для двух своих сыновей — виной тому были все те же принципы. И мычал бы, и блеял, и лаял. И не было бы для меня большей награды, чем ласковое прикосновение маленькой руки. Дедушка. И я бы без конца сочинял для него истории. О животных. О чертях и привидениях. О деревьях и камнях… А ночью, когда его родители давно спят, я бы пробирался, как вор, в ясли. Чтобы поцеловать его головку. И так изо дня в день — какими бы тяжкими ни были мои грехи. Ведь и перед грешником следует приоткрыть врата. Вон тот же Болонези: жестокий убийца, теперь он раскаялся и сидит себе, вяжет жилеты. Маленький мальчик. Чернокудрый и смышленый, как написано у поэтессы Рахели. Мой внук.
Далеко-далеко в горах, по ту сторону границы, мерцали огоньки. Стало холоднее. Иолек Лифшиц стоял и вглядывался, подняв воротник пальто и надвинув пониже кепку. Около десяти минут стоял он так, опустошенный, отринувший все прежние устремления и страсти, свои непреклонные принципы, которым служил всю жизнь. Холодная, безмолвная, ночная пустота разливалась вокруг, охватывая небо и землю. Иолек стоял и ждал. Пока не упала звезда. И тогда взмолился он о милосердии…
В то же мгновение он рассмеялся над собой и повернул назад, к дому. Ясное и понятное решение пришло к нему: этот парень, Азария Гитлин, остается здесь. Ни в коем случае не будет изгнан, если только не натворит чего-нибудь плохого. Это мое окончательное решение, и я буду настаивать на нем. А там будь что будет.
Из холодильника достал он маленькую бутылочку и проглотил свое лекарство. Взял таблетку перкодана, сильного обезболивающего, хотя никакой боли не испытывал. Перед тем как раздеться и лечь в постель, Иолек зачеркнул на листке надпись «Со стола Исраэля Лифшица» и вывел косым почерком, в котором ощущались решительность и напор:
Хава! Я должен попросить прощения. Пожалуйста, прости меня. Вода в чайнике закипела, и ты можешь налить себе стакан чая. Грелку я только что наполнил и положил под твое одеяло. Сожалею обо всем, что было. Спокойной ночи.
На стене, над пустым креслом, висела картина. Темная птица отдыхает на заборе из красного кирпича. Все пространство картины тонет в туманной тени, это не сумерки; кажется, что воздух просто насыщен влагой. Но косой луч солнца блестящим копьем пробивает и тень, и туман, рассыпаясь ослепительными вспышками на поверхности кирпича в самом конце забора, в нижнем углу картины, вдалеке от усталой птицы, которая, как неожиданно для себя обнаружил Иони, раскрыла клюв, словно изнемогая от жажды. А глаза у нее закрыты…
Тия растянулась под диваном. Только ее косматый хвост остался снаружи и время от времени постукивал по ковру. Четыре ряда книг выстроились по ранжиру на полках. Тяжелые коричневые шторы задернуты на окнах и на двери, выходящей на веранду. Все полно покоя. Обогреватель включен, горит лампа в изголовье дивана. Верхний свет потушен.
Римоны нет в комнате.
— Слушай, Азария, что это за книгу ты читаешь весь вечер?
— Письма. На английском. Это философская книга.
— Письма? К кому?
— К разным людям. Это письма Спинозы.
— Ладно. Читай себе. Не собираюсь тебе мешать.
— Ты не мешаешь, Иони. Наоборот. Я думал, ты дремлешь.
— Я? С чего это вдруг? Только в рабочее время, когда ты вытворяешь всякие чудеса в гараже. Вот тогда я готов вздремнуть. А сейчас я как раз думал о том коне и нашел простое решение.
— Какой еще конь?
— Тот самый конь, Твой. В партии, которую ты вчера проиграл, хотя у тебя было преимущество, ладья… Еще немного — и она вернется.
— Она пошла на какое-то заседание? На репетицию хора?
— Она сегодня дежурит в клубе. Подает кофе и печенье участникам кружка еврейской философии. Сточнику, Срулику, Яшеку и остальным. О чем же написано у тебя там, в этой книжке?
— О философии. Идеях. Взглядах на мир. Это написал Спиноза. Иони?
— Что?
— Слабак… Так меня называли в армии. Ты считаешь, что я слабак? Или враль? Или слегка ненормальный?
— Слушай, Азария, тебе ни разу не хотелось взять и просто уехать за границу? Скажем, пожить одному в каком-нибудь огромном городе вроде Рио-де-Жанейро или Шанхая? Там, где тебя никто не знает, где ты для всех чужой и никому ничем не обязан? И целыми днями только и делать, что молча слоняться по улицам, без всякой цели, даже без часов на руке?