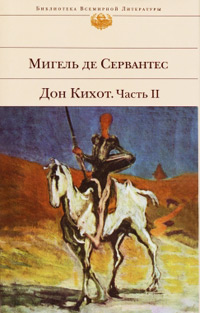Книга Дон Кихот. Часть 1 - Мигель де Сервантес Сааведра
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Ну ладно, — согласился Санчо, — мне бы только теперь поговорить, а там что господь даст. Так вот, понеже сие дозволение уже вошло в силу, я осмелюсь обратиться к вам с вопросом: что это вашей милости пришло в голову так горячо вступиться за королеву Мордасиму или как бишь ее? И что нужды вам до того, был этот самый, как его, аббат ее милым или нет? Ведь вы им не судья, и я уверен, что если б вы промолчали, то сумасшедший докончил бы свой рассказ и дело обошлось бы без булыжников, попавших вам в грудь, без пинков и без полдюжины затрещин.
— Право, Санчо, — снова заговорил Дон Кихот, — если б ты знал так же хорошо, как это знаю я, сколь почтенна и благородна была королева Мадасима, — я знаю, ты сказал бы, что я был еще слишком терпелив: другой на моем месте вырвал бы язык, с которого столь кощунственные срывались слова. В самом деле, величайшее кощунство — не только сказать, но даже помыслить, что какая-либо королева делит ложе с лекарем. Истина же заключается в том, что доктора Элисабата, о котором толковал помешанный, человека весьма благоразумного и весьма мудрого советчика, королева держала при себе в качестве лекаря и наставника. Но воображать, будто она была его возлюбленной, — это нелепица, заслуживающая строгого наказания. И если ты примешь в рассуждение, что, когда Карденьо говорил это, он был уже не в своем уме, то, верно, согласишься, что он сам не знал, что говорил.
— Я про то и толкую, что вам не стоило обращать внимание на сумасшедшего, — заметил Санчо, — мало ли что он сболтнет. Ведь если бы счастливый случай не пришел вашей милости на помощь да направил булыжник прямехонько вам в голову, а не в грудь, то хороши бы мы тогда были, а все потому, что стали на защиту этой самой сеньоры, разрази ее господь. А Карденьо еще как здорово вывернулся бы, потому он умалишенный!
— Любой странствующий рыцарь обязан защищать честь женщин, кто бы они ни были, как от людей разумных, так и от невменяемых, наипаче же честь королев, столь могущественных и достойных, какова королева Мадасима, которую я особенно чту за ее добродетели, ибо она была не только прекрасна, но и в высшей степени благоразумна и стойка в несчастиях, а ведь несчастия случались с ней беспрестанно. Советы же и общество доктора Элисабата были ей очень полезны: они умудряли ее и помогали безропотно нести тяготы жизни. А невежественной и злопыхательствующей черни это дало основание думать и утверждать, что она была его наложницей. Но я опять скажу и еще двести раз повторю, что лгут те, кто так думает и говорит.
— Да я ничего не говорю и не думаю, — сказал Санчо, — ну их совсем, пусть себе на здоровье. Сожительствовали они или нет — за это они дадут ответ богу. Мое дело сторона, я знать ничего не знаю, не любитель я вмешиваться в чужие дела, кто покупает да надувает, у того кошелек тощает. Тем более, голышом я родился, голышом весь свой век прожить ухитрился, да хоть бы они и сожительствовали — мне-то что? И ведь люди часто про других думают: у них дом — полная чаша, а поглядишь — хоть шаром покати. Ну да разве на чужой роток накинешь платок? Чего лучше: на самого господа бога наговаривали.
— Господи Иисусе! — воскликнул Дон Кихот. — Какую ты околесицу несешь, Санчо! Какое отношение имеют нанизываемые тобою пословицы к нашему предмету? Ради бога, замолчи, Санчо, и впредь заботься о своем осле и перестань заботиться о том, что тебя не касается. И постарайся наконец воспринять всеми своими пятью чувствами, что все, что я делал, делаю и буду делать, вполне разумно и вполне соответствует правилам рыцарского поведения, которые я знаю лучше, чем все рыцари в мире, когда-либо им следовавшие.
— Сеньор! — возразил Санчо. — А это тоже мудрое рыцарское правило — плутать в горах без пути, без дороги и разыскивать сумасшедшего, которому, когда мы с ним встретимся, еще, чего доброго, захочется довершить начатое, — я разумею не рассказ, а голову вашей милости и мои бока, — и войну с нами он доведет до полной победы?
— Говорят тебе, Санчо, замолчи! — сказал Дон Кихот. — Да будет тебе известно, что в эти края влечет меня не только желание сыскать безумца, но и желание совершить здесь некий подвиг и через то стяжать себе бессмертную славу и почет во всем мире. И подвиг мой будет таков, что отныне все странствующие рыцари станут смотреть на него как на нечто в своем роде совершенное, как на нечто такое, что может привести их к славе и на чем они могут проявить свое искусство.
— А что, этот подвиг очень опасен? — осведомился Санчо Панса.
— Нет, — отвечал Рыцарь Печального Образа. — Хотя к нам может прийти такая карта, что мы проиграемся в пух. Впрочем, все зависит от твоего рвения.
— От моего рвения? — переспросил Санчо.
— Да, — сказал Дон Кихот, — ведь если ты скоро возвратишься оттуда, куда я намерен тебя послать, то и мытарства мои кончатся скоро и скоро начнется пора моего величия. Однако не должно держать тебя долее в неведении касательно того, что я под всем этим разумею, а посему да будет тебе известно, Санчо, что славный Амадис Галльский был одним из лучших рыцарей в мире. Нет, я не так выразился: не одним из, а единственным, первым, непревзойденным, возвышавшимся над всеми, кто только жил в ту пору на свете. Не видать ему добра, этому дону Бельянису, и тем, кто уверял, будто он в чем-то с ним сравнялся, — это одни разговоры, даю тебе слово. Скажу еще, что художник, жаждущий славы, старается подражать творениям единственных в своем роде художников, и правило это распространяется на все почтенные занятия и ремесла, украшению государства способствующие, и оттого всякий, кто желает прослыть благоразумным и стойким, должен подражать и подражает Одиссею, в лице которого Гомер, описав претерпенные им бедствия, явил нам воплощение стойкости и благоразумия, подобно как Вергилий в лице Энея изобразил добродетели почтительного сына и предусмотрительность храброго и многоопытного военачальника, при этом оба изображали и описывали своих героев не такими, каковы они были, а такими, каковыми они должны были бы быть, и тем самым указали грядущим поколениям на их доблести как на достойный подражания пример. Так же точно и Амадис был путеводною звездою, ярким светилом, солнцем отважных и влюбленных рыцарей, и мы все, сражающиеся под стягом любви и рыцарства, должны ему подражать. Следственно, друг Санчо, я нахожу, что тот из странствующих рыцарей в наибольшей степени приближается к образцу рыцарского поведения, который больше, чем кто-либо, Амадису Галльскому подражает. Но особое благоразумие, доблесть, отвагу, выносливость, стойкость и силу чувства выказал Амадис, когда, отвергнутый сеньорой Орианой, наложил он на себя покаяние и удалился на Бедную Стремнину, дав себе имя Мрачного Красавца, имя, разумеется, заключающее в себе глубокий смысл и соответствующее тому образу жизни, который он с превеликою охотою избрал. А что касается меня, то мне легче подражать ему в этом, чем рубить великанов, обезглавливать драконов, убивать андриаков[169], обращать в бегство войска, пускать ко дну флотилии и разрушать злые чары. И раз что это весьма удобное место для таких предприятий, как мое, то и незачем упускать удобный случай, который ныне столь услужливо подставляет мне свой вихор.