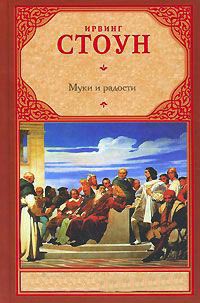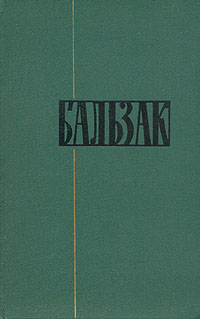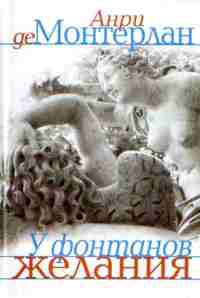Книга Коринна, или Италия - Жермена де Сталь
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Выйдем отсюда, — сказала Коринна лорду Нельвилю, — мне кажется, что я сейчас упаду в обморок!
— Что с вами? — с беспокойством спросил Освальд. — Вы побледнели, идемте на воздух, идемте вместе со мной!
И они вышли вдвоем. Освальд повел Коринну, и, опираясь на его руку, она чувствовала, как к ней возвращаются силы. Они вышли на балкон.
— Дорогой Освальд, — с живым волнением сказала своему другу Коринна, — я вас покину на неделю.
— Что вы говорите? — прервал он ее.
— Каждый год, — продолжала она, — перед Страстной неделей я провожу некоторое время в монастыре, чтобы подготовиться к празднику Пасхи.
Освальд не воспротивился этому намерению; он знал, что в эти дни большинство римских дам соблюдают самые строгие церковные обряды, хотя и не слишком серьезно помышляют о религии в другое время года; но тут он вспомнил, что Коринна исповедует другую религию и они не смогут молиться вместе.
— О, почему мы с вами не одной веры? — вскричал он. — Почему у нас не одна родина?
И он умолк, произнеся эти слова.
— Разве наши души и наши мысли не имеют одну родину? — спросила Коринна.
— Это правда, — ответил Освальд, — и все же меня так тяготит все, что разделяет нас.
И при мысли о предстоящей недельной разлуке с Коринной у него так больно сжалось сердце, что, когда к ней присоединились ее друзья, он за весь вечер не вымолвил ни одного слова.
На другой день, обеспокоенный тем, что ему сказала Коринна, Освальд рано утром явился к ней. К нему вышла горничная и передала записку, в которой ее госпожа извещала его, что утром она удалилась в монастырь, как предупреждала его, и что они увидятся лишь в Страстную пятницу. Она признавалась ему, что у нее не хватило духу накануне сообщить ему о своем столь близком отъезде. Освальд был поражен неожиданным ударом. Дом, где он всегда видел Коринну, теперь стал пустынным и производил на него гнетущее впечатление. Он видел арфу, книги, рисунки — все, что обычно окружало ее, но самой ее здесь не было. Его пронизала мучительная дрожь: он вспомнил комнату своего отца и был вынужден сесть, не в силах стоять на ногах.
— А ведь возможно, — вскричал он, — что я узнаю когда-нибудь также внезапно о ее кончине! Живой ум, горячее сердце, черты, сияющие молодостью, — все это может поразить удар молнии, и могила юного создания будет столь же немою, как могила старца. Ах, как призрачно счастье! Это лишь мгновение, похищенное у неумолимого времени, всегда стерегущего свою жертву! Коринна, Коринна! вам не надо было покидать меня; ваше обаяние отвлекало меня от моих дум; в моем уме все смирялось в минуты, которые я проводил подле вас, ослепленный счастьем; и вот я один, я опять стал самим собой, и все мои раны откроются вновь.
И он призывал Коринну с отчаянием, причиной которого была не столько краткая разлука, сколько владевшая им тоска, какую лишь она одна умела облегчать. Горничная Коринны, слышавшая его жалобные стоны и тронутая его скорбью, снова вошла в комнату.
— Милорд, — сказала она, — я хочу вас утешить и выдам вам секрет моей госпожи; я надеюсь, что она меня простит. Пройдите в ее спальню и вы увидите ваш портрет.
— Мой портрет! — воскликнул он.
— Она рисовала его по памяти, — отвечала Терезина (так звали горничную Коринны), — и целую неделю вставала в пять утра, чтобы закончить его до отъезда в монастырь.
Он увидел свой портрет, очень похожий и выполненный с чрезвычайным изяществом; убедившись, какое большое место он занимает в воображении Коринны, Освальд испытал радостное волнение. Напротив портрета висела прелестная картина, изображающая Деву Марию, а перед ней стоял столик, на котором лежал молитвенник Коринны. Такое удивительное смешение любви и религии нередко встречается у итальянок — и при обстоятельствах гораздо менее скромных, чем у Коринны; ибо при всем ее свободном образе жизни, мысли об Освальде в ее душе всегда были связаны с самыми чистыми надеждами и чистыми чувствами; однако поставить перед образом Божиим портрет любимого человека и посвятить работе над ним последнюю неделю перед тем, как удалиться в монастырь, — все это было более характерно для итальянских женщин вообще, чем лично для Коринны. Благочестие такого рода основано скорее на игре воображения и пылкой чувствительности, чем на душевной сосредоточенности и строгости правил; ничто не противоречило так воззрениям Освальда на религию — и все же, мог ли он порицать Коринну в то самое мгновение, когда он получил столь трогательное доказательство ее любви к нему?
С волнением осматривал он комнату, в которую вошел в первый раз. У изголовья кровати Коринны он увидел портрет пожилого господина, в лице которого не было ни единой итальянской черты. К этому портрету были подвешены два браслета; один, сплетенный из черных и седых волос, другой — из прелестнейших золотистых волос; лорду Нельвилю показалось удивительной прихотью случая то, что они были точно такие, как локоны Люсиль Эджермон, на которые он обратил внимание три года назад, пораженный их редкой красотой. Освальд рассматривал браслеты, не говоря ни слова, ибо он считал недостойным расспрашивать Терезину о ее госпоже. Но Терезина, полагая, что она догадалась о том, что занимало Освальда, и желая рассеять у него хотя бы тень подозрения, поспешила рассказать ему, что в течение одиннадцати лет, которые она служит у Коринны, ее госпожа всегда носила эти браслеты, сделанные из волос ее отца, матери и сестры.
— Вы уже служите одиннадцать лет у Коринны, — сказал лорд Нельвиль, — стало быть, вы знаете…
Он внезапно умолк, покраснев и устыдившись вопроса, который собирался задать, и быстро вышел из дома, чтобы прервать разговор.
Уходя, он несколько раз оглядывался на окна Коринны; но когда ее дом скрылся из вида, он испытал новое для себя грустное чувство, чувство одиночества. Вечером он отправился в общество, где собралось много народу; он пытался рассеяться; ведь чтобы наслаждаться мечтами, надлежит как в счастье, так и в горе быть с собою в ладу.
Однако высший римский свет скоро наскучил лорду Нельвилю; заметив, как пусто стало без Коринны, он еще глубже понял, какое очарование она распространяла вокруг себя, сколько интереса она вносила в общество; он попробовал было заговорить с дамами: они отвечали ему банальными фразами, за которыми принято скрывать свои истинные чувства и мнения, если вообще есть, что скрывать. Он присоединился к группе мужчин, которые, судя по их голосам и жестам, с большим жаром обсуждали некий важный вопрос; но он услышал, что они спорили о самых незначительных предметах, высказывая самые заурядные мысли. Тогда он сел и стал спокойно наблюдать то бесцельное и беспричинное оживление, какое обычно присуще многолюдным собраниям; и все же в Италии даже посредственность довольно добродушна: у нее мало тщеславия, мало зависти и много доброжелательства к выдающимся умам; если она и подавляет своей тупостью, то по крайней мере почти никогда не докучает глупыми претензиями.
А ведь те же собрания несколько дней назад доставляли удовольствие Освальду: легкая преграда, встававшая между ним и Коринной в обществе; ее старания быть поближе к нему, не нарушая долга вежливости по отношению к другим; их полное согласие в оценке этого общества; удовольствие, какое получала Коринна, беседуя в присутствии Освальда и косвенно обращаясь к нему, причем он один понимал истинный смысл ее слов, — все это так разнообразило общий разговор, что все уголки этой гостиной напоминали Освальду о сладких, приятных и веселых минутах, которые делали интересными эти вечера. «Ах, — говорил он себе, уходя, — здесь, как и во всем мире, жизнь всему придает она; лучше я удалюсь до ее возвращения в какое-нибудь пустынное место. Ее отсутствие будет мне менее тягостно, когда вокруг ничто не будет напоминать о радостях жизни».